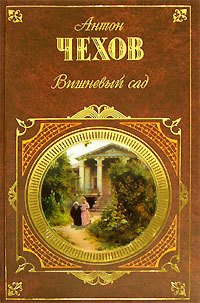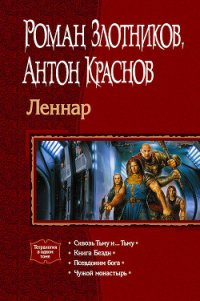Апокалипсис для шутников - Краснов Антон (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
«Не так уж и неверно насчет беса, – подумал Афанасьев, – Владимир Ильич-то признал свое совсем непролетарское происхождение…»
– И псы Господни взяли мой след, и вот я и мои спасители здесь, – высоким слогом, не лишенным истинной поэтичности, закончила Инезилья.
– Псы Господни? – переспросил Владимир Ильич.
– О, это известный парадокс, – сказал Женя. – Неужели вы, Владимир Ильич, такой образованный человек, не знали? Доминиканцы по-латыни – Dominicanes, а если поделить это слово надвое, то получится Domincanes – в переводе с латинского «псы Господни». Это же известный каламбур, много раз обыгрывался в литературе.
– Говорящая жаба, псы разные, – проворчал вождь мирового пролетариата, – давайте лучше немного отдохнем, товарищ Афанасьев. А то у меня от всего услышанного и увиденного начинает чертовски болеть голова. Кто его знает, каких диковинных животных предстоит нам еще увидеть… Э-эх, – вдруг протянул он с тоскливой ноткой, – как там без меня съезд, товарищи по партии, Совнарком, Москва…
– Мос-квввва-а-а! – вдруг мерзко пробулькала жаба Акватория, и Афанасьев в панике скатился на пол вслед за Ильичом и Инезильей. Пусть животное разучивает новые слова, а мы пока что спать, спать…
Судопроизводство в инквизиции было поставлено на скорую ногу. Уже на утро следующего дня всех содержащихся в камере вызвали на суд святой инквизиции. Суд должен был состояться не в местной Бутырке… м-м-м… не в Священном доме, а в монастыре с таким длинным названием, что даже Афанасьев – с его прекрасной памятью – немедленно забыл его, как только сержант альгвасилов, пришедший за обвиняемыми в колдовстве, огласил место судебного заседания.
Надо сказать, Афанасьев обрадовался. Больше всего он опасался не суда, не возможных пыток (о них он, будучи наслышан о здешних «нежных» методах выбивания показаний, даже думать боялся), а длительной задержки в камере. Ведь время идет на часы! Ведь дионы, уже очухавшись, могут искать их в Толедо, а о том, что могут натворить эти двое в испанской столице, Женя даже и размышлять не желал, чтобы не перетруждать мозги.
Когда обвиняемых везли в монастырь, Афанасьев и товарищ Ульянов-Ленин уже не распевали веселых песен. Джованни Джоппа уныло клевал носом, у него из-за пазухи Акватория время от времени выдавливала вновь разученное словечко: «Москввва-а-а!», а донна Инезилья сидела неподвижно, как прекрасная греческая статуя, и рассматривала свои округлые точеные кисти рук. «Эх, Ксюша, – думал Афанасьев, – ничего, что нас отделяет пять с лишним столетий!.. Мы еще побарахтаемся, поборемся, у нас крепкая заквввва-а-аска, как сказала бы эта милая сердцу пупырчатая Акватория!.. Видит бог, не столько за себя, сколько за этих идиотов Эллера и Поджо переживаю. Ведь без них мы никуда отсюда не денемся. Эх, всё-таки – за себя, за себя!..» Под конвоем восьми суровых безмолвных альгвасилов в шлемах и с торжественного вида алебардами их ввели в зал инквизиции, где и должен был состояться суд.
У дальней стены зала стоял длинный стол, за которым сидели семеро священнослужителей в одинаковых черных сутанах, с аккуратно выбритыми тонзурами, с одинаковыми же равнодушными лицами, которые вызвали у Жени смутные ассоциации с вареными овощами. Лица доминиканцев выражали куда меньше жизни, чем солнечные зайчики, игравшие на стеклах расположенных за спинами отцов-инквизиторов широких окон.
– Н-да, – пробормотал себе под нос Афанасьев, – такие изможденные рожи, как будто неделю ничего не ели и работали при этом на лесопилке. Интересно, кто из них Торквемада? Они тут все сидят одинаковые, как редька в земле. Кто их разберет…
Впрочем, разобрались очень скоро. Томас де Торквемада, Великий инквизитор веры, сидел в самом центре, и по правую и левую руку от него сидело соответственно по три доминиканца. Вблизи у Торквемады было морщинистое лицо, похожее на печеное яблоко, и мутные серые глаза, столь редкие для испанцев. Крючковатый нос инквизитора вполне мог принадлежать и представителю той нации, столь ярым гонителем которой он являлся.
Инквизиторы молча наблюдали за обвиняемыми. В их лицах и взглядах не было ни недоброжелательства, ни злобы, ни осуждения, ни даже любопытства. Их не смутил ни экзотический наряд Владимира Ильича, ни «адидасовские» кроссовки Жени, которые тот забыл снять перед перемещением. Видимо, суд над еретиками, колдунами и другими местными маргиналами был для них таким же обыденным будничным деянием, как для мясника – разрубка туши, а для суконщика – выделка шерсти.
Вдруг Торквемада заговорил:
– Подойдите, дети мои.
У него оказался глубокий печальный голос, мало соответствующий его блеклой, вытертой внешности. Он произнес эти слова почти нежно, как будто искренне жалел приведенных к нему на суд. Но ничто не дрогнуло в его «печеном» лице, несмотря на сострадательность избранного им тона. Афанасьев (кстати или некстати) вспомнил мнение отдельных историков, что инквизиторы умело создавали и поддерживали атмосферу доверительности и отеческой откровенности. Приведенные в тюрьму, а потом на суд несчастные мавры, евреи и просто заподозренные в ереси или колдовстве жители Испании проникались этой благочинной, мирной обстановкой, пропитывались этими доброжелательными, почти жалостливыми взглядами инквизиторов и верили, что о них искренне заботятся, что здесь им не причинят зла, что им просто хотят помочь…
Владимир Ильич, который попал в привычную атмосферу заседательного органа, выступил вперед и бодро спросил:
– Товарищи, а в чем, собственно, гм-гм, нас обвиняют?
Торквемада поднял на него глаза и проговорил:
– Сын мой, я не чародей и действую по воле Господа и по мере скромных сил своих. Мне кажется, что я знаю кое-что о ваших душах, но я просто бедный монах и не обладаю сверхъестественными способностями. Душа бессмертна, а тело бренно и утло, так что я надеюсь, что вы сами откроете мне свои души и назовете, ОТЧЕГО вы здесь и В ЧЕМ вас обвиняют.
«Удобная риторика, – подумал Афанасьев, и по коже его пробежали будоражащие мурашки, – вежливо и доступно, а по сути – то же самое, когда следователь ЧК или НКВД клал перед обвиняемым чистый лист и говорил: „Ну че, козел, я простой человек, из народа, а ты у нас ученая скотина, нивирситеты кончал, вот сам и придумай, в чем ты провинился перед советской властью. А если будешь яйца мять, то я тебя, тварь, сейчас по всем законам революционной совести шлепну, гниду!..“
Владимир Ильич ответил:
– Вы, товарищ Торквемада, несколько не так формулируете. Я сам государственный человек, управляю государством, и если кого-то обвиняют, то нужно сначала сформулировать обвинение. Так-то, батенька!
– Мы не вмешиваемся в светские дела, чужеземец, – тусклым голосом сказал сидящий крайним слева инквизитор. – Будь ты хоть король чужой страны, нас совершенно не касается ни твое правление, ни твои деяния. Наше дело твоя душа, и еще то, чтобы она была вручена Богу, но не дьяволу. А в твоем случае мы ничего не можем утверждать определенно.
– Что за религиозный бред? Давайте устроим диспут! Я вам докажу, товарищи инквизиторы, что вы в корне заблуждаетесь!
После этих слов Владимира Ильича несчастный Женя Афанасьев предположил, что вождя мирового пролетариата ударили по голове несколько сильнее, нежели можно было предположить изначально.
Впрочем, то ли испанский язык товарища Ульянова был настолько плох, что из его речи не всё разобрали, то ли инквизиторов не интересовали нюансы и частности и они предпочитали, согласно позднейшему изречению Козьмы Пруткова, зрить в корень. Женя решил принять удар на себя и, решительно придержав Владимира Ильича за локоть, выступил вперед. Взгляд великого Торквемады вонзился в него, как холодный, остро отточенный кинжал, уже отведавший крови. Женя тряхнул головой. Он попытался взять себя в руки, чувствуя, как сознание начинает туманиться под этим страшным отсутствующим взглядом. Какой он великий?.. Просто лысый старикашка с мутным взором и людоедскими взглядами на жизнь и людей! Да он и людей-то не видит, перед ним – какие-то ходящие схемы, которые желают или не желают вписываться в некие плавающие рамки, поставленные вот этими лысыми, костлявыми, беззубыми злыми старикашками. Да судя по их рожам, они питаются сухими бобами и фанатично запивают их святой водой! А женщин, молодых и красивых, видят только в том аду, который они им сами устраивают! Вон тот, сбоку, с такой кислой рожей, как будто у него хронический запор! А тот, надутый, с коричневыми кругами под глазами, похожий на напуганного совенка? Наверно, в молодости ему не дала какая-нибудь знойная андалузка, он и озлился на всех женщин и весь мир в частности, запирается в келье и… Вон какие руки мозолистые-то! Афанасьев даже развеселился от своих мыслей, переводя взгляд от одного монашеского лица к другому. А тот, третий слева, напоминающий ожившее огородное пугало, со впалыми щеками и трясущимся подбородком, то и дело открывающим желтые лошадиные зубы… Просто какой-то статист для голливудского фильма ужасов, снимается без грима! Играет в массовке оживших мертвецов.