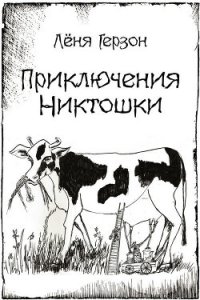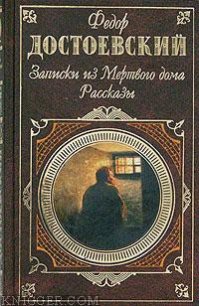Песни мертвого сновидца. Тератограф - Лиготти Томас (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Я едва не проглядел фигуру, неподвижно стоящую в углу, — того самого новичка школы, чье присутствие было предсказано мне. Он был почти что наг, а кожа его была сплетена из тьмы — истинной экскрементной тьмы, заставлявшей его смешиваться с безвестностью лестничной клетки. На лице его залегли глубокие морщины, и был он дьявольски стар — лишь густой волос с вплетенными зубами и осколками костей остался молод. Вокруг шеи новичка вился тонкий ремешок — или, быть может, простой кусок бечевы, — унизанный маленькими черепами, когтями, отчлененными лапками и целыми усушенными тушками существ, которых я не мог назвать. И, хоть я стоял к этому древнему дикарю предельно близко, он не обратил на меня никакого внимания. Его большие, свирепые глаза смотрели ввысь, по дальнейшему пути пролета; тонкие, изъеденные губы бормотали беззвучные слова на некоем языке тишины. Ни слова не смог уловить я, не смог — и потому оставил его.
Взойдя по оставшимся, уходящим в противоположную сторону ступеням, я достиг второго этажа. Чернота и распад стен ухудшались здесь — в темное бурление дыма можно было погрузить руку; свет мерк и складывал свои полномочия, бессильный перед этим субпродуктом упадочных миров, пред плацентарной тьмой миров только-только зарождающихся, пред фундаментальной заразой и великой Гнилью, в которой брали свое начало все вещи.
На лестнице, ведущей на третий этаж, я увидел молодого ученика, сидевшего на нижних ступенях, — одного из самых усердных последователей наставника. Он был погружен в свои мысли и не заметил меня, покуда я не заговорил.
— Кабинет?.. — подчеркнуто-вопросительным тоном обратился я.
Он посмотрел на меня безмятежно.
— Наставник перенес болезнь, тяжелую болезнь. — Вот и все, что он сказал, перед тем как впасть в безответный, самозабвенный ступор.
Были и другие — сидевшие на ступеньках повыше, на корточках ютящиеся на лестничной клетке. Голоса ходили по пролету вниз и вверх, повторяя в унисон размытую фразу, — но не ученикам, восседающим молча и зачарованно на ложе из страниц, вырванных из объемистых конспектов, они принадлежали. Исписанные странной символикой листы были опалью разбросаны повсюду. Они шуршали под моими ногами, когда я поднимался на последний этаж школы.
Вонь здесь больше не веяла ностальгическими воспоминаниями — то был жуткий чумной смрад. Стены крыла антрацитная короста, уходящая в клубившийся у пола черный туман. Только в находившем себе путь сквозь разбитое окно лунном свете я мог различить хоть что-то. Только благодаря ему я различил их — лица-маски учеников, застывшие и бесчувственные. Тот, что стоял впереди всех, обратился ко мне:
— Наставник перенес тяжелую болезнь. Но он снова ведет занятия. Он мог стерпеть все и не боялся врагов. Он был повсюду. Сейчас у него — новый кабинет… где бы то ни было. — Возникла пауза, и в нее с готовностью ворвались голоса, призывающие и проклинающие где-то там, в темноте, подобной плотно утрамбованной могильной земле. — Наставник умер ночью. Видишь? Он теперь с ней. Слышишь эти голоса? Они — для него. Все они — с ним, а он пребывает в ночи. Ночь укоренилась в нем, болезнь тьмы захлестнула его. Теперь он ступает только там, где тьма. Но тьма царит почти везде, когда наступает ночь. Вслушайся — наставник Карнейро взывает к нам!
Я слушал — и заговор голосов наконец-то обрел ясность.
Подними голову, твердили они. Подними голову.
Клубы мрачного тумана низверглись к моим ногам, сконцентрировались где-то там, внизу. Какое-то время я был лишен способности двигаться, говорить, мыслить. Внутри меня все сделалось черным. Чернота трепетала в темном царстве моей души, а голоса твердили: подними голову. И я поднял, претерпевая нечто, что я никогда не был способен вытерпеть, что я не готов был вытерпеть. Трепет мрака во мне не мог длиться вечно. Я не мог оставаться там, где я был, — я не мог смотреть туда, куда голоса указывали мне.
Тогда мрак хлынул из моего тела прочь, и я больше не был внутри школы — я стоял снаружи, будто пробудившись ото сна. Не оглядываясь, я вернулся на свой прежний путь, позабыв о том, что изъявлял желание срезать. Я миновал учеников, что все еще ютились у огня, плескавшегося в старом металлическом барабане. Они подкармливали пламя страницами из своих конспектов, до черноты испещренными причудливыми схемами и символами. Кто-то из них окликнул меня — ты видел Португальца? Разузнал что-нибудь про задание? Кто-то бросил еще пару слов на ветер — и потом они дружно рассмеялись. А я шагал прочь от школьной территории, двигаясь с такой поспешностью, что единственная пуговица моего пальто наконец расстегнулась. Но к тому времени я уже вышел на улицу. Школа осталась позади.
Шагая под фонарями, я держал полы пальто вместе и старался смотреть лишь на тротуар передо мной. Но голос — быть может, я взаправду его слышал — приказал мне: подними голову — и если я и послушался его, то только на краткий миг. И в этот миг увидел я, что небо было свободно от облаков — и полная луна светила сквозь черное полотно неба, размытая по краям, будто лампа, поднявшаяся вдруг из липких вод глубочайших бассейнов ночи.
Конечный их продукт, вспомнил я, но то были лишь слова — без понимания. Как бы я ни желал знать правду о своем существовании, постичь собственную суть прежде, чем улечься гнить в могилу или облаком вонючего смога воспарить из трубы крематория, желание это осталось неисполненным. Я ничего не узнал — и остался ничем. Но вместо разочарования я испытал огромное облегчение. Мой поиск истины был предопределен, и теперь ему пришел конец. И следующей ночью я снова пошел в кинотеатр… но на пути домой срезать не стал.
Шарм
Бродить поздними вечерами, посещая последние киносеансы, давно уже вошло у меня в привычку. Но в ту ночь, когда я решил наведаться в кинотеатр в той части города, где я прежде ни разу не бывал, что-то еще примешалось к этому обычаю. Меня вдруг увлекло некое предвосхищение чего-то нового, доселе не испытанного. Трудно сказать что-то определенное о том овладевшем мной чувстве, ибо оно, похоже, принадлежало моей обстановке в той же степени, что и мне.
Едва я ступил в ту неразведанную часть города, меня привлекла определенная особенность местности: самая обычная на первый взгляд, она была заключена в некий фантастический ореол, и все вокруг виделось мне одновременно и размытым, и предельно ясным.
Несмотря на поздний час, окна магазинов, попадавшихся на пути, светились. Звезд не было, но огни этой вот улицы — сияющие вставочки, оправленные темной кладкой домов, — разгоняли тьму. Я остановился у витрины магазина игрушек и подивился нелепо-оживленной картине: заводные обезьянки судорожно хлопали в свои тарелки и подпрыгивали, выводила пируэты балерина на музыкальной шкатулке, исполнял гротескный танец чертик из табакерки. За этой суматохой, уместной скорее под рождественской елью, чем на полках витрины, простиралась темень и пустота торгового зала. Старик с отполированной лысиной и острыми бровями вдруг выступил оттуда и стал заводить игрушки по новой, поддерживая их нескончаемый танец. Наши глаза встретились… лицо его осталось непроницаемым.
Я двинулся по улице дальше, и замелькали новые окна — рамки маленьких неожиданно живописных миров, послабляющих городскую недружелюбную темень. Вот кондитерская с целой выставкой скульптур из глазури на зимнюю тематику: взбитые сугробы из крема, снежная пудра, льдинки из сахара и в самом центре этого холодного королевства — пара замороженных фигурок на вершине многоярусного свадебного торта. А за всем этим арктическим великолепием — мрак закрытого на ночь заведения.
Встав у другого окна неподалеку, я задумался — открыт еще бутик, которому оно принадлежало, или же нет? В глубине зала замерли несколько неясных фигур — будто задний план выцветшей фотографии: они, похоже, были одного рода-племени с одетыми на удивление старомодно манекенами в витрине. Серьезно — даже в их омытых глянцевым светом пластиковых лицах было что-то от умудренных выражений прошлого.