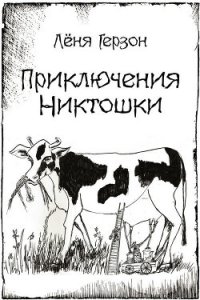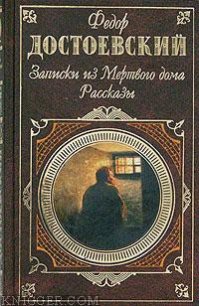Песни мертвого сновидца. Тератограф - Лиготти Томас (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
— А ты? — спросил я.
— Я?..
— Да, не ты ли по-своему также поддерживаешь сохранность бытия?
— Никак нет, — ответил он, улыбаясь в своем кресле, будто на троне. — Я счастливчик. Паразит хаоса, личинка порока. Там, где я, — там всегда царит кошмар, и это по-своему приносит облегчение. Я привык пребывать в бреду истории. И под историей я понимаю события и даже целые эпохи, что начисто стерлись из памяти человечества. Из разговоров с умершими чего только не почерпнешь… они-то помнят все, что живые забыли. Знают то, чего живые никогда не смогли бы узнать. Им ведома истинная неустойчивость сущего. Взять хотя бы это происшествие в старом Мюленберге. Они рассказали мне обо всем одним летним вечером, и я слушал их, потому что меня никто нигде не ждал, мне некуда было идти… тени расселись по углам моей комнаты; помню колокола, собор, шелест кассетной пленки… годы с одна тысяча триста шестьдесят пятого по одна тысяча триста девяносто девятый… помню собор, колокола! Никто не знает… а они знают все… и то, что было раньше, и ту эпоху ужаса, что грядет!
Клингман расплылся в улыбке, засмеялся — его последние слова, похоже, были адресованы более самому себе, чем кому-то еще. В надежде вывести его из темных закоулков собственного разума, я позвал:
— Клаус, что это за город — Мюленберг? Что за собор?
— Я помню собор. Я вижу собор. Колоссальные своды. Центральная арка нависает над нами. В темных углах сокрыты резные гравюры… зверье и уродцы, люди в пастях у демонов. Ты снова записываешь?.. Хорошо, это хорошо, пиши. Кто знает, что из этого всего ты запомнишь? Вдруг твоя память и вовсе не справится? Неважно, мы уже там… мы сидим в соборе, средь приглушенных звуков… а там, за окнами, на город наползает сумрак.
Сумрак, как поведал мне Клингман, окутал Мюленберг одним осенним днем, когда облака, равномерно укрывшие город и его округу, затмили солнечный свет и привели лес, тростниковые фермы и застывшие у самого горизонта ветряные мельницы в гнетуще-унылый вид. В высоких каменных пределах Мюленберга никого, казалось, особо не обеспокоило, что узкие улицы, привычно обрастающие в это время дня тенями остроконечных крыш и выступающих фронтонов, были все еще погружены в теплый полумрак, что превратил яркие купеческие вывески в нечто достойное заброшенного города, а лица людей — в слепки из бледной глины. А на центральной площади, где скрещивались, подобно мечам, тени от шпилей-близнецов собора, ратуши и бойниц высокой крепости, возвышавшейся на подступах к городу, царила лишь непотревоженная серость.
О чем же думали горожане? Почему не заметили, как попран был древний уклад вещей? Когда состоялось то разделение, что пустило их мирок в свободное плавание по странным волнам?
В блаженном неведении пребывали они, занимаясь каждый своим делом, пока неправомерно затянувшиеся пепельные сумерки покушались на те часы, что, будучи достоянием вечера, четко проводят границу между днем и ночью. Зажглись одно за другим окна, создавая видимость, что приход ночи неизбежен. Казалось, вот-вот наступит тот момент, когда естественный порядок избавит город от преподнесенного этим странным осенним днем затяжного заката, — и темнота была бы облегченно принята всеми, от бедняков до богачей Мюленберга, ибо в этих жутких застойных сумерках никто не решался обратиться к извилистым улочкам города. Даже привратник сбежал со своего ночного поста, и, когда колокола аббатства стали бить вечерню, каждый удар проносился подобно сигналу тревоги по городу, замершему в ирреальном свечении сумрака.
Изъеденные страхом, жители стали запахивать ставни, гасить лампы и ложиться в кровати, надеясь, что все придет в порядок. Кто-то бдел со свечой, наслаждаясь утраченной роскошью теней. Пара-тройка странников, чей быт не был привязан к городу, вторглись в Мюленберг чрез неохраняемые ворота и пошли по городским дорогам, все время глядя на бледнеющее небо и гадая, куда же идти теперь.
Проводя ли часы во снах или же на бессменных вахтах, все как один жители Мюленберга были обеспокоены чем-то в своем отечестве, как если бы некая инаковость просочилась в атмосферу их города, их жилищ… возможно даже, их душ. Воздух будто потяжелел и стал хуже поддаваться, заполоненный некими формами, которые глаз отказывался воспринимать иначе как посредством случайных мельтешений и в мгновение ока пропадающих фантомов. Суть этих форм была едва ли доступна взгляду.
Когда часы в высокой башне ратуши подтвердили, что ночи пришел конец, кто-то растворил ставни, даже отважился выйти на улицу. Но небо все еще нависало над головами взвихрением подсвеченной пыли. Тут и там по всему городу люди сбивались в перешептывающиеся кучки. Вскоре с соборного аналоя высказали первые робкие домыслы, призванные успокоить паству: видимо, там, на небесах, идет борьба, что и повлияло на устои зримого мира. Кто-то, конечно же, упомянул о каре Господней и об искушениях дьявола. Язычники провели тайные встречи в своих клоаках и дрожащими голосами помянули древних богов, что были преданы забвению до поры, а теперь прощупывали себе страшную дорогу обратно в мир. По-своему каждая подобная трактовка была верна — но ни одной из них не под силу было унять ужас, простершийся над Мюленбергом.
Отданные во власть затянувшихся сумерек, смущенные и напуганные чьим-то призрачным вторжением, жители города чувствовали, как их тихая, устоявшаяся жизнь летит под откос. Повторяющийся бой башенных часов звучал как издевка. Пришло время странных мыслей и диких решений: например, пошли слухи о самом старом дереве в саду аббатства — дескать, в его искривленной фигуре произошли некие изменения, а ветви стали жить собственной жизнью, обвисая дрожащими плетьми. В конце концов монахи облили дерево лампадным маслом и подожгли — сполохи огня танцевали на их напуганных лицах. Фонтан в одном из внутренних дворов печально прославился тем, что якобы обрел невиданную глубину, несоразмерную с положением дна. В конце концов и сам собор опустел, ибо молящихся пугали странно движущиеся вдоль резных панелей силуэты и дрейфующие в дерганом свете тысяч свечей бесформенные призраки.
По всему городу места и вещи свидетельствовали о пересмотре основы основ материи: так, рельефный камень утратил твердость и потёк, забытая садовая тачка частично впиталась в вязкую дорожную грязь, кочерга увязла в кирпичной кладке очага, драгоценные украшения слились с их обладателями, а тела мертвых — с деревом гробов, в которых покоились. Потом пришло время и лиц жителей Мюленберга — первые изменения были довольно-таки робкими и незаметными, но позже набрали столь большую силу, что угадать за ними первоначальный облик не виделось возможным. Горожане перестали друг друга узнавать… но, что характернее, вскоре они перестали узнавать себя. Да и нужда в этом пропала — их всех затянул сумеречный парасомнический водоворот, в конце концов перемешавший их тела с воцарившейся темнотой.
И именно в этой темноте души Мюленберга барахтались и сопротивлялись… и в конце концов наградой им стало пробуждение. Звезды и высокая луна осветили ночь, и город, похоже, вернулся к ним прежним. А недавнее испытание, выпавшее на их долю, столь ужасное в своем начале, развитии и завершении, стерлось из их памяти начисто.
— …Начисто? — эхом откликнулся я.
— Разумеется, — кивнул Клингман. — Все эти ужасные воспоминания остались позади, во тьме. Они не осмелились вернуться за ними.
— Но твой рассказ, — запротестовал я. — Все, что я записал сегодня…
— Что я тебе говорил? Это тайна. Конфиденциальная информация. Вырванная страница истории. Рано или поздно каждая живая душа Мюленберга обрела память о том случае в деталях. Им пришлось просто возвратиться туда, где они ее оставили, — в потемки послесмертия.
Я вспомнил о смертопоклоннической вере Клингмана. Той вере, которую я всегда старался разделить, невзирая на спорные моменты. Но это было уж слишком.