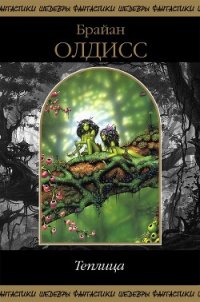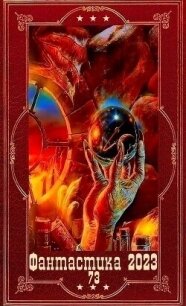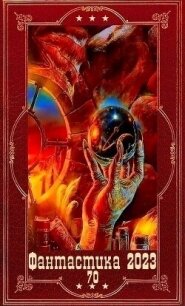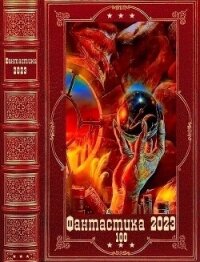Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие - Ходж Брайан (читать полные книги онлайн бесплатно txt, fb2) 📗
Так Рони и передала мне бумагу.
Я не осмеливался притронуться к ней еще дольше, чем к карандашам. Я знал, что полночи не буду спать, отыскивая для нее самый надежный тайник. Никто не должен о ней узнать. Никто никогда не должен о ней узнать. Если ее найдут, у меня никогда в жизни больше не будет окна, только стены.
— Эй, — позвала Рони, когда небо потемнело, а она уже долго меня не видела. — Ты должен рассказать мне, в чем дело. Что ты такого натворил? Нарисовал кучу грязных картинок, и у твоих предков мозги перегорели?
Я надолго замер, навалившись на подоконник. Стоявшая у окна Рони была силуэтом, подсвеченной сзади загадкой, и, если бы я был тогда чуть старше, мне, должно быть, захотелось бы нарисовать все до единого ее локоны, резавшие свет на тонкие ленты. Она отнеслась ко мне добрее, чем кто-либо за всю мою жизнь, а ведь мы даже ни разу не оказывались в одной комнате и вообще не подходили друг к другу ближе чем на двенадцать футов.
— Иногда мои рисунки сбываются, — сказал я ей. Потому что она спросила, а мне больше некому было рассказать, и я даже не представлял, что настанет день, когда я смогу это сделать. — Иногда я что-нибудь рисую, и это что-нибудь случается. Или меняется.
Она ничего не сказала. «Врун…» Этого слова я ожидал. Может, даже надеялся его услышать. Чем дольше тянулось молчание, тем больше мне хотелось, чтобы Рони просто посмеялась надо мной. Мои пальцы вцеплялись в подоконник, будто птичьи когти в ветку.
— Ты ведь теперь меня не бросишь, правда? Ты все равно будешь приходить к окну?
— Посмотрим, — сказала она.
— На что?
— Как это работает? Ты просто рисуешь, что в голову взбредет, и оно случается? Или тебе нужно сначала этого захотеть?
— Мне кажется, я должен этого хотеть. Даже если сам не понимаю.
И даже если я этого хотел, иногда ничего не случалось. Иначе в парке поселилась бы куча ти-рексов и стадо бронтозавров. Это навело меня на мысль, что я ограничен работой с тем, что уже существует, и не могу создавать что-то из ничего.
— Интересно, — сказала Рони. — Слушай. Мне говорят, что со следующего года я должна буду носить скобки. Только большого блестящего металлического рта мне еще и не хватало. Как думаешь, если я дам тебе хорошенько их разглядеть, ты сможешь поправить мне зубы?
Мне всегда было интересно узнать, что сказал бы ее стоматолог, если бы ему хоть раз еще довелось взглянуть на зубы Рони.
Исправить их оказалось несложно, к тому же я мог разглядеть ее рот ближе, чем она ожидала, потому что у меня был телескоп — через него я мог разглядывать на земле и в небе все то, что было мне недоступно. Рони встала у своего окна, улыбнулась широкой, безумной улыбкой, заполнившей объектив телескопа, и я нарисовал ее зубы сначала такими, какими они были — те, что с боков, наклонялись внутрь, а те, что спереди, заходили друг на друга. Затем я изо всех сил сосредоточился и начал понемногу изменять линии. Два раза Рони сказала, что ей больно, но останавливать меня не захотела.
Когда мы закончили, она не сразу отошла от зеркала в ванной. Но после сказала, что я отлично поработал.
Я уже не в первый раз что-то исправлял, и теперь у меня получалось лучше, чем раньше, когда я был маленьким, пальцы не так хорошо меня слушались и мой талант был для меня в новинку, а родители его не замечали. До этого я менял лишь всякие мелочи в доме, например, переставил местами ноги и руки фигурке танцовщицы, крутившейся на крышке маминой музыкальной шкатулки. Они ничего не подозревали до того вечера, когда устроили вечеринку — кажется, рождественскую, — вывели меня к гостям и заставили показать свои рисунки, чтобы все поглядели, какой великий художник у них растет.
Один из гостей попросил меня нарисовать его портрет.
Так я и сделал.
Только я нарисовал его по-своему, потому что он мне не нравился. Он был громким, у него воняло изо рта, он брызгал слюной, когда говорил, и у меня от него болели уши, поэтому я сначала нарисовал его уродливый раззявленный рот, а потом размазал его, и глаза тоже, чтобы он перестал на меня так пялиться.
Это быстро изменило настрой вечеринки.
Мои родители наконец-то сообразили, в чем дело, и заставили меня сделать гостя таким, каким он был раньше, но я уже успел перепугаться и рисовал не так хорошо, к тому же это был первый раз, когда я пытался вернуть что-то в прежнее состояние. Несколько дней спустя, подслушивая, как родители спорят о том, что со мной делать, я узнал, что у этого мужчины впереди были годы операций.
Поэтому мне было приятно помочь Рони.
Но больше ничего менять было не нужно, поэтому остаток времени я рисовал просто так, без всяких причин, — в основном места, где с удовольствием оказался бы, если бы знал, как туда попасть.
Учебный год закончился для всех, кроме меня, и лето сделалось жарче. Когда у меня не было уроков, а Рони не уходила куда-то еще, мы жили у открытых окон, поэтому на наших верхних этажах тоже стало жарко и мы отшлифовали подоконники локтями.
Веревку мы так и не сняли.
— Может, убрать ее? — спросил я как-то вечером.
— Нет. Ни в коем случае, — ответила Рони. — Они никогда не обращали внимания на то, что творится у них над головами, так с чего бы им начать это делать сейчас?
Поэтому мы обменивались при помощи корзины всякой всячиной: книгами, журналами, комиксами, музыкой и прочими штуками, которые любили, а еще тем, что делали сами. Я пересылал ей рисунки, некоторые — в подарок, а она мне — рассказы, которые писала, и я не только читал их, но и иллюстрировал.
Рони призналась, что все они — о том месте, откуда родом ее песни.
После того первого вечера она не переставала петь. Я был этому рад, а она, похоже, больше не возражала, что я ее слушаю. Язык я все еще не понимал, а Рони не рассказывала мне, что значат слова ее песен, но я начал воображать себе их смысл, основываясь на звучании. И еще на ее рассказах, которые я понимал. В основном это были истории о девочках, которые убивали троллей и людоедов, или бросали их в темницу навечно, или ненадолго бросали в темницу, после чего убивали. Сначала я их жалел, потому что тоже был узником и знал, каково им приходится, но потом понял, что каждый из них сотворил с девочками что-то ужасное, и поэтому, наверное, было к лучшему, что принцессы, крестьянки и юные воительницы первым делом отрубали чудовищам руки.
А потом, однажды вечером, когда небо было мягким и сиреневым, а у земли мерцали светлячки, Рони посмотрела на меня, склонив голову под странным углом.
— Это ведь был ты, да? — спросила она. — Те люди, в парке, зимой. Это ты с ними сделал?
Я ждал этого вопроса несколько недель.
— Я не хотел. Это получилось случайно.
— Три раза подряд получилось случайно? — Она рассмеялась так, как смеются, когда чему-то не верят, но, кажется, не рассердилась. Она не знала этих людей, и поэтому ей было все равно, что они лишились голов. — Как ты это сделал без бумаги?
Я спросил ее, знает ли она, как это — когда очень сильно хочешь что-то сделать, но не можешь, и тебе кажется, что ты вот-вот взорвешься. Ей даже вспоминать не пришлось. Так вот, без бумаги со мной было то же самое. Пока я не обратил внимание на изморозь, что покрывала выходившее на парк окно.
— Я только выглянул в окно и обвел их фигуры ногтем. — А потом провел тем же ногтем по их шеям. — Я ничего такого не хотел сделать. В первый раз я даже не знал, что так будет.
Рони озадаченно посмотрела на меня.
— Когда я спрашивала у тебя, как это работает, ты сказал, что для того, чтобы что-нибудь сделать, ты должен этого хотеть.
Да. Я так сказал. Так что, может быть, я злился на тех людей за то, что они могли гулять в снегопад, а мне приходилось сидеть взаперти. Может быть, я сделал это во второй раз, чтобы убедиться, что и правда виноват в первом случае. А в третий — может быть, просто потому что мог. Помнил я в основном то, как они падали — сначала одна их часть, а следом вторая — прямо в снег, не издав ни звука.