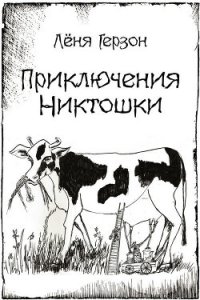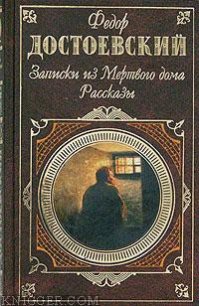Песни мертвого сновидца. Тератограф - Лиготти Томас (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Паяц стоял под тусклым уличным фонарем. Когда он повернул голову в мою сторону, я понял, почему он показался мне знакомым. Лысая выбеленная голова, крупно подведенные глаза, овальное лицо — все это напоминало череп или кричащее существо на той известной картине, чье название, как назло, вылетело из головы. Клоунская имитация соперничала с оригиналом, демонстрируя шокирующий, крайний ужас и отчаяние за гранью человеческих возможностей… Пожалуй даже, за пределами надземного мира в целом. Едва увидев это существо, я припомнил обитателей гетто у подножия холма. В повадках странного шута чувствовались уже знакомая противоестественная покорность и апатичность.
Должно быть, если бы не выпивка, я ни за что не решился бы на следующий поступок. Решив поддержать традицию зимнего празднества, отчего-то ужасно раздраженный видом этого непрошено-мрачного буффона, я дошел до угла и, громко хохотнув, толкнул его в спину.
Шут, попятившись, опрокинулся на тротуар. Я снова захохотал и огляделся, ожидая одобрительных возгласов гуляк. Однако, похоже, никто не оценил моего поступка — даже не дал понять, будто заметил то, что я сделал. Они не смеялись вместе со мной, не тыкали в нас пальцами, а просто проходили мимо… кажется даже ускоряя шаг, стремясь быстрее оставить нас позади. Видимо, я нарушил какое-то негласное правило. Хотя разве мой поступок хоть в чем-то противоречил обычаю? В голову пришло, что меня могут даже задержать и предъявить обвинение за то, что в других обстоятельствах безусловно расценивалось бы как хулиганство. Повернувшись, чтобы помочь клоуну подняться, надеясь как-нибудь загладить свою вину, я обнаружил, что он исчез.
Подспудно раздражающие переулки Мирокава тянулись и тянулись, и я сбил шаг лишь раз — перед дверью бара. Внутри было людно; сев у стойки, я взял себе чашку кофе, желая перебить хоть чем-то мерзкий алкогольный дух. За окном бара были люди. Все куда-то шли, торопились. Уже давно перевалило за полночь, а поток гуляющих все никак не редел. Никому, видимо, не хотелось домой пораньше. В этой череде лиц, за которой я отстранение наблюдал, вдруг промелькнула наводившая дрожь маска черного клоуна — может, того самого, которого я толкнул, может, какого-то еще: что-то в этой траурно-насмешливой личине будто бы неуловимо изменилось.
Быстро отсчитав деньги за кофе, я выбежал на улицу, но шут исчез — как сквозь землю провалился. Плотные ряды празднующих исключали всякую возможность погони. Как же он ретировался? Неужто толпа инстинктивно расступалась, давая ему беспрепятственно пройти — как в случае с Тоссом? Разыскивая нужного мне фрика, я обнаружил, что среди празднующих не один и даже не два подобных шута, — их было много больше, этих бледных, не от мира сего существ. Они скользили по улицам, и их не задевали даже самые отъявленные задиры.
Теперь я понимал одно из табу празднества. Этих, иных шутов никто не смел трогать, их избегали так же, как и жителей здешних трущоб. Но чутье говорило мне, что клоуны по обе стороны этих социальных баррикад были как-то солидарны друг с другом. Они были общиной внутри общины, траурницами среди празднующих кардиналов, и был у них — как бы странно это ни звучало — свой собственный, независимый, внутренний праздник.
Снова оказавшись в гостиничном номере, я стал заносить догадки в дневник мирокавских событий:
Жители города настроены против жителей трущоб, особенно против их жутковатого маскарада; какая связь между их праздниками, какой справляется первым? Мое предположение (предварительное): зимнее празднество Мирокава проходит позже. Оно скрывает, заглаживает последствия парада жутких шутов из низов города. В пользу моей догадки: праздничные суициды, описанный Тоссом «субклимат», исчезновение Элизабет Бидль двадцать лет назад, мое столкновение с париями, отвергающими жизнь мирокавской общины — притом пребывающими внутри нее. О личных впечатлениях и о вредоносном «межсезонье» пока не вижу смысла говорить — неясно, не наводит ли помехи мой собственный зимний сплин. По общему вопросу душевного здоровья нужно принять во внимание книгу Тосса о его пребывании в психиатрической больнице (почти уверен, в Западном Массачусетсе. Уточнить насчет книги и проверить новоанглийские корни Мирокава). Завтра зимнее солнцестояние — самый короткий день в году; с этого дня по календарю начало зимы, почин ее коренной части. Следует обратить внимание на то, как оно связано с самоубийствами и обострением душевных болезней. Припоминаю перечень задокументированных случаев в статье Тосса: кажется, там повторяются одни и те же фамилии, как нередко случается в любых данных, собранных в маленьком городке. Те же Бидли фигурировали там не раз и не два. Быть может, они вообще генетически предрасположены к суицидам, и догадки доктора о мистическом субклимате ошибочны. Концепция, несомненно, яркая, под стать многим внешним и внутренним особенностям Мирокава, но ее вряд ли выйдет доказать.
Что бесспорно, так это дробление города на два лагеря и, как следствие, — два разных празднества, два разнящихся шута (в самом широком смысле слова «шут»). Но между ними есть связь — и я, кажется, понимаю, какая. Есть не только предубеждение к людям из гетто — об этом я уже писал: есть и страх, и ненависть своего рода, идущие из иррациональных глубин памяти. Думаю, теперь мне предельно просто понять «мирокавскую угрозу» — через инцидент в той пустой столовой. «Пустая» в данном случае — очень подходящее слово, хоть и противоречащее фактам. Люди в темном зале, хоть их и было много, более отсутствовали, чем присутствовали. Расфокусированный взгляд, апатичные лица, заторможенные движения. Один их вид давил на психику — потому-то я и сбежал. Неудивительно, что их сторонятся.
Мудрость мирокавских родоначальников — в проведении праздника в ту пору, когда тягостная зимняя изоляция восходит в свой пик, в самые долгие и темные дни зимнего солнцестояния. Рождество — столь же переломный и нестабильный период: нужно было что-то еще. Но добровольно принятые смерти тех, кому по каким-то причинам недоступно веселье празднества, все же остаются.
Видимо, именно природа лукавого «межсезонья» определила внешность зимнего праздника Мирокава. Оптимистическая зелень — против бесплодной серости; обещание урожаев от Зимовницы; и самое, на мой взгляд, интересное — клоуны. Пестрые скоморохи Мирокава, жертвы хамского обращения, появляются, чтобы служить подставными фигурами вместо мрачных арлекинов из трущоб. Поскольку последних опасаются из-за того, что они обладают каким-то могуществом или влиянием, их все же можно символически порицать через дублеров, избираемых исключительно для этой цели. Если я прав, то интересно, насколько глубоко осознает городское население собственную смещенную агрессию? Троица, с которой я сегодня вечером выпивал, определенно не видела в своей праздничной традиции ничего, кроме грубоватого повода повеселиться. И если уж на то пошло, осознают ли это по ту сторону праздничной сепарации? Жутковатое предположение, но нельзя не задуматься: а вдруг, несмотря на кажущуюся бесцельность, жители гетто — единственные, кто понимает суть? Невозможно отрицать, что за их нечеловечески безвольными выражениями лиц скрывается своего рода отторгающая разумность.
Когда этим вечером я шатался от улицы к улице, наблюдая за круглоротыми клоунами, я не мог сдержать чувства, что все веселье в Мирокаве было так или иначе дозволено с их попустительства. Надеюсь, это лишь причудливая гипотеза а-ля Тосс… Идея хорошая и любопытная для обдумывания, но бездоказательная. Я понимал, что мыслю не вполне здраво, но чувствовал за собой способность чрез множащуюся путаницу пробраться к темной изнанке праздничной поры. Особенно плотно следовало заняться значением второго праздника. Так же ли он посвящен плодородию? По тому, что я увидел, он, скорее, отрицает продолжение рода в принципе. Но как же тогда не угасла упадочная традиция? Как появляются те, кто ее чтит?