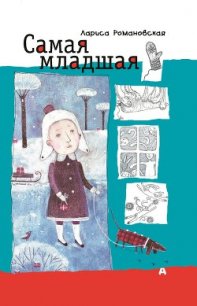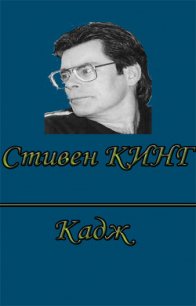Московские Сторожевые - Романовская Лариса (читать книги онлайн полностью без сокращений TXT) 📗
Ты же Старого за врача принял, естественно. Хотя — это запомнилось почему-то — четко видел, что он перед тобой в зимней обуви стоит. В обычных таких ботинках, поеденных солью. А врачи тут все в сменке ходят, если мужики — то чаще всего в кедах. А у посетителей бахилы. Это ты тоже откуда-то знал. А вот тогда, как только перестало мутить, ты пырился на эти долбаные ботинки. Первый предмет, на который просто смотрел, потому что хотелось смотреть, а не надо было себя отвлечь от боли. Это так дико было, что ты другому не удивился. Тому, что можешь слова говорить, а не глотать. Хотя тебе их до этого даже глотать было больно.
О чем говорили, в жизни бы не вспомнил, если бы Савва тебе потом не пересказал. У него это смачно так выходило — почти как у мамы. Оказывается, ты свое имя не мог вспомнить. На самом деле тебе просто по фиг было, как тебя зовут (не говоря уже про все остальное), но не ответить не мог. А сверху в памяти был тот кусок воспоминаний, где вы с Клюквой и Зайцем на лестнице в карты режетесь. После него — уже ничего, ну память-то обезболенная.
Ну вот ты пробуешь вспомнить, как тебя зовут, и как бы голос Зайца вспоминаешь, «Гуня, а ты чего с бубей пошел? Млин, ну щаз же продуешься как не хрен делать… Мля, ну, Гунь, разуй глаза, на них ботинки, Клюкве тебя сделать — как два пальца об асфальт». Ну точно. Заяц-то тогда вышел уже, отбился на две свои последние карты. И вот ту игру ты до деталей помнишь, включая узор на «рубашке» и стаю угрей на Зайцевой щеке, а свое паспортное имя — как корова языком. Так что ты Старому так и сказал: «Меня Гуня зовут». По идее — чистый анекдот, сам был готов его пересказать, когда обет кончится. Ну успеешь еще, впереди столько жизни.
А тогда Савв… Старый тебя за плечи с кровати тянет, легко так, будто ты весишь как это одеяло. «Ну давай тогда, Гуня, одеваться». И пакет со шмотками тебе выдает. Ты даже не сразу понимаешь, что двигаться не больно, будто с тобой ничего не случилось. Просто удивляешься, что все барахло чужое, не всегда даже новое. Ну труселя с магазинной биркой, носки и майка тоже, а остальное как из секонда. Чужим человеком пахнет, пусть и стираное. Не батино, нет, хоть размер-то большой, тебе все велико на хрен.
Однако надеваешь. Хоть и не хочешь этого делать абсолютно. Причем все так аккуратно напяливаешь, блин, словно ты на какую-то важную встречу сейчас пойдешь. Хоть на премьеру в этот мамин Дом творчества, хоть на паспорт фотографироваться. Еще и ботинки шнуруешь по всем правилам, а не наискось, как всю жизнь привык. Мощные такие говнодавы, на пару размеров больше нужного, потасканные малость. Старый их на тебе прямо там же и уменьшил, но ты не удивился тоже совсем.
Опять же потом узнаешь, что это фиксатор на всех эмоциях тогда стоял, чтобы ты не рехнулся раньше времени и не мешал с собой работать. А тогда ничего так, нормалек. Оделся, обулся, кровать заправил как следует, хоть и на ощупь слегонца. Савва тебе на дверь указал, ты туда зашагал спокойно, в коридоре увидел кресло-каталку, забурился в нее, зная, что от тебя именно этого хотят. Потом глаза закрыл — уж больно много новых предметов вокруг, страшно почему-то стало. Разожмурился обратно, когда звук изменился, ты этого испугался. Потому что до этого вы по коридору ехали и в лифте не то спускались, не то поднимались, а сейчас переход начался. Длиннющий такой стеклянный коридор с очень черной тьмой за окнами.
Ты не знаешь, холодно там или нет, просто неприятно смотреть, поэтому смотришь на серые плитки пола, они квадратные, кресло сильно дребезжит на стыках, звук несется по сторонам и, кажется, вас чуть ли не обгоняет. Это громко. Особенно по сравнению с той тишиной, которую ты привык помнить вокруг себя. Никто вас не обгоняет и не идет навстречу, в стеклянной полосе сбоку видны окна приближающегося корпуса, почти все черные и пустые. Ты еще не помнишь, что именно так видел в последний раз свою квартиру, тебе просто неприятно на них смотреть. Поэтому опускаешь голову, пробуешь уснуть, прижимая щеку к вздувшемуся воротнику теплой куртки.
На тебе точно куртка, темная, громоздкая, но не тяжелая. Но тебе все равно холодно — до невозможности. То ли в рукава и штанины дует, то ли у тебя жар, то ли заморозка ощущений дает такой эффект (об этом ты тоже впоследствии узнаешь). А потом вместо коридора желтое нутро очередного лифта и двери с большой вывеской «Дневной стационар» (буквы крупные, ты их различаешь). За дверями темнота с дежурной лампой на пустом письменном столе и незнакомый человек. Ты не удивляешься, просто отмечаешь, что незнакомый, не батя и не мама. А какого он пола — без разницы, тебе это неинтересно. Потом, опять же, узнаешь, что это был Фельдшер, он сам тебе расскажет, через почти семь лет, когда вы Лену (Лилю) будете провожать в светлый путь. Еще через несколько минут после этого разговора тебя застрелят, но это тоже будет потом.
А пока человек из темноты обращается к тому, кто стоит у тебя за спиной:
— Быстро вы, Савва Севастьянович, я даже подремать не успел…
И Савва ему отвечает что-то неразборчиво, а потом останавливает кресло. Скрип прекращается, боль не приходит, от мыслей ничего не отвлекает, и от этого плохо до дрожи. У тебя начинается такой реальный колотун, сам от себя не ожидал подобного — пальцы вздрагивают и подпрыгивают над вытертыми ручками кресла — будто вы на бешеной скорости мчитесь по еще одному коридору со стеклянными стенами. Ты смотришь на руки и почти не различаешь лицо присевшего рядом с креслом Старого. А он задерживает ладони на твоих щеках, фиксирует голову. Потом дует тебе в глаза. Как, опять же потом узнаешь, — закатывает тебя в сон. Вроде медикаментозного, но иной. Целительский. Это двадцать седьмой билет, третий вопрос. Потом выучишь.
А от следующих воспоминаний почти ничего не осталось: тебе ведь память смывать начали, ну, прежде чем на усыновление перекинуть или как-то типа того. Так что ни людей, ни разговоров, ни обстановки ты не помнишь. Потом тоже обидно будет — оба вылета в Ханты в бессознанке провел, а ведь ты от самолетов прешься как удав по стекловате. Не столько от самих «Боингов», или на чем вы там летали, а просто от путешествий. У тебя же их не было раньше. Батя все предлагал летом куда-нить в Крым забуриться, в Феодосию, что ли, вроде как тебя солнцем подкормить перед выпускными-вступительными. Не успели. Вместо Черноморского побережья Крыма намоталось два визита на Север, один другого страшней, хоть ты их и не помнишь целиком.
А из тогдашнего в памяти четко остался только вкус ржавой воды. Это тебя чем-то травяным отпаивали, но при этом спиртовым, настоянным на кошкиных слезках и забей-траве. У травы вкуса никакого, а слезки ржавчиной очень сильно отдают, если настой хороший. Ты даже не знаешь, хотелось тебе это пить или нет. Но глотал, не понимая, что ты делаешь и что в тебя вливается.
Второе сохранившееся ощущение — это живое тепло. Ни с чем не сравнить и потом поверить невозможно, что такое бывает. Это явно не человек, это непонятное нечто куда больше, его толком не ощупать. Но оно дышит, урчит и наговаривает тебе правильное, успокоительное. Или даже не тебе, а так, себе бормочет под невидимый нос: «Совсем еще котенок… Ш-ш-ш… Давай, кутька, пригревайся, дыши теплом, тебе надо… Тебе вырасти надо, а то вон какой маленький».
У слов другая интонация, не мамина и вообще какая-то не сильно человеческая, но тут куда важнее смысл. Ты ничего не помнишь, а поэтому очень хочешь жить. Угреться, как тебе предлагают, и вырасти. Ты зарываешься в это тепло, оно мягкое, меховое, пахнущее чем-то немного знакомым, елочным, что ли… Чем именно — не вспоминается, но тебе и не надо, ты просто вжимаешься в тепло и начинаешь дышать вместе с ним, тоже что-то урча в ответ: «Ты не уйдешь? Ты не кончишься?» И ответ тебе уже снится: «Не бойся, не бойся… Ш-ш-ш-ш… Эх, кутька ты, кутька…»
А вот потом воспоминание четкое, как на картинке. Оно и есть практически картинка — классика жанра, красиво сделанная легенда для мирской амнезии. Но это, опять же, когда билет при подготовке к экзамену разбираешь, то там все простое, как тот пряник, а когда сам через это прошел, то страшно думать.