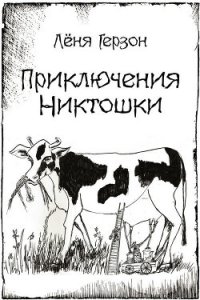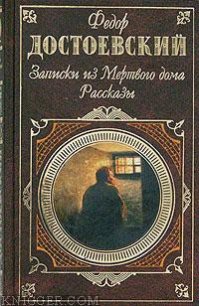Песни мертвого сновидца. Тератограф - Лиготти Томас (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Пока вкалывали успокоительное, он продолжал бредить. Бред этот присутствующим в палате приходилось слышать уже не раз. Каждый новый приступ развивал старую тему — его, Виктора Кириона, заключили сюда несправедливо, так как человек, у которого он отнял жизнь, помыкал им, пользовался самым ужасным способом — таким, что объяснить его решительно невозможно, так как никто в это не поверит. Тот мужчина не мог прочитать книгу — ту самую книгу — и поэтому крал у него навеянные ею сны.
— Крал мои сны, — тихо бормотал Кирион, отдаваясь на милость лекарства. — Крал мои…
Санитары простояли у его кровати несколько минут — разглядывали его, не промолвив ни слова. Потом один из них, указав на книгу, все же осмелился спросить:
— Что нам с ней делать? Сколько раз изымали — и всегда появляется еще одна.
— Не знаю. Бессмыслица какая-то. Все страницы пусты.
— Так зачем он ее все время читает? Ему больше делать нечего?
— Думаю, надо рассказать главному врачу.
— А что мы ему скажем? Что кое-какому больному следует запретить читать какую-то конкретную книгу, потому что он становится буйным всякий раз, когда так делает?
— Да, что-то вроде того.
— Но тогда они спросят, почему мы не можем отобрать у него книгу. Почему не уберем ее насовсем. Как на такое отвечать?
— Никак. Если скажем все как есть — примут за таких же, как он, сумасшедших. Того и гляди, в соседние хоромы упекут.
— А если бы кто-то спросил, что для него значит эта книга… и как она называется… каков был бы наш ответ?
И, словно отвечая им, убийца-безумец, привязанный к кровати, произнес единственное слово… но смысла его санитары не поняли. Ежедневно сталкиваясь со сверхъестественным, они все же не обладали достаточной степенью просвещённости. Они были пожизненно привязаны к собственным телам, в то время как он теперь находился в месте, ничем не обязанном материальному существованию.
Ни за что он не покинет этот город странных чудес. Никогда.
Тератограф: Его жизнь и творчество
(перевод Г. Шокина)
Посвящается Бобу, моему брату
Вступление
Его зовут…
Суждено ли мне когда-нибудь узнать его имя? Неведение — та, быть может, единственная преграда, что отделяет нас от абсолютного кошмара. Есть те, кто верует, что в миг между определенной смертью и определенным рождением наша душа забывает свое старое имя, прежде чем обретает новое. Вспомнить имя из прошлой жизни равносильно возвращению на скользкий путь, обратно в ту первозданную тьму, в коей берут начало все имена, воплощаясь в бесконечной череде людских тел, что подобны бессчетным строфам нескончаемого Писания.
Осознание того, что некогда у тебя было очень много имен, равнозначно отречению от них ото всех. Обретение памяти о множестве прежних жизней — утрата каждой.
Поэтому он хранит свое имя в тайне. Все свои имена. Всякое отдельно взятое он обособляет от прочих, и так они не теряются в общем потоке. Защищая свою жизнь от гнета минувших жизней, от груза неизбывной прожитой памяти, он отгорожен от мира маской безымянности.
Но, даже если я и не могу узнать его имя, голос его мне ведом был всегда. Голос этот ни с каким иным не спутаешь — пусть даже звучит он как целый сонм разнящихся голосов. Я признаю его, едва заслышав, ибо он всегда ведет речь об ужасном и сокрытом. О причудливых тайнах и небывалых случаях. Порой — с омерзением, порой — с удовольствием, а порой — в таком тоне, какому подобрать определение не видится возможным. За какой свой грех — или в угоду какому проклятию — прикован он к своей прялке кошмаров, выбрасывающей все новые и новые нити историй столь странных, сколь и страшных? Придет ли вообще конец его повествованию?
Он ведь столькое нам поведал.
И поведает еще.
Но имя свое он никогда не назовет. Ни в конце одного жизненного пути, ни в начале следующего. Мы не узнаем, как его зовут, до тех пор пока само время не сотрет все имена и не отнимет все сущие жизни.
Но до той поры — каждому требуется имя. К каждому из нас нужно как-то обращаться. Есть ли такое слово, что может обозначить всех нас?
Да, мы — тератографы, летописцы ужасного, и труд наш — тератография.
Внимайте же нашим голосам.
Голос тех, кто проклят
Последнее пиршество Арлекина
Городок Мирокав заинтересовал меня ровно тогда, когда я узнал, что каждый год там проводится праздник с клоунадой. Мой бывший сослуживец — сейчас он работает на факультете антропологии в провинциальном университете — прочитал на страницах «Журнала популярной культуры» свежую статью за моим авторством, «Медийность образа клоуна в Америке», и написал мне, что где-то когда-то слышал о городке, в котором каждый год устраивают некий Простачий Пиргорой, который, быть может, меня заинтересует. Бедняга даже представить не мог, сколь важны были для меня эти сведения, — причем интерес мой был продиктован не одними лишь академическими изысканиями.
Кроме того, что я занимался педагогической деятельностью, я несколько лет кряду участвовал в антропологических конференциях с неизменной темой: «Важность клоунского образа в различных культурных пластах». Посещая на протяжении последних двадцати лет празднества в южных штатах перед началом поста, я каждый раз все глубже и обстоятельнее проникал в смысл их скрытой от посторонних глаз «кухни». Исследователь во мне горел извечной жаждой познания — и потому я играл роль не только антрополога, но и непосредственно клоуна; и роль эта приносила мне столько удовольствия, сколько не могло доставить ничто иное в жизни. Звание клоуна всегда виделось мне благороднейшим. Наверное, странно это звучит: шут-антрополог! — но я был талантлив и гордился своим мастерством, стараясь усовершенствовать его до предела.
Написав нетерпеливо-восторженное письмо в Отдел парков и отдыха, я запросил кое-какую специфическую информацию, объяснив попутно, какие цели преследую, и несколькими неделями позднее получил коричневый конверт с государственными штемпелями, со списком всех сезонных тематических праздников, известных правительству, внутри. Как выяснилось — и я не преминул взять это на заметку, — поздней осенью и зимой праздников этих проводилось не меньше, чем в пору потеплее. В сопроводительном письме пояснялось, что, по имеющимся сведениям, за Мирокавом официально не закреплен ни один фестиваль; однако, ежели в рамках исследовательской деятельности я вдруг захочу прояснить этот или какой-либо подобный вопрос, на меня охотно возложат требуемые полномочия. Увы, к тому времени, как я получил письмо, меня прижал к ногтю груз проблем на рабочем и личном фронтах — и потому я просто запрятал конверт в ящик стола и вскоре выбросил его из головы.
Но несколько месяцев спустя я, резко отстранившись от своих привычных обязанностей, ненароком оказался втянут в мирокавский вопрос. Близился конец лета, я поехал на север с намерением просмотреть кое-какие журналы в библиотеке местечкового университета.
За чертой города пейзаж преобразился, открыв мне раздолье полей и обласканных солнцем ферм. Понятное дело, все эти красоты отвлекали от указателей, но врожденный ученый-эмпирик во мне умудрялся отслеживать и их, поэтому название городка бросилось в глаза; следом в памяти обрывочно всплыло все, с этим городком связанное, и пришлось прямо на ходу прикидывать, имею ли я в своем распоряжении достаточный ресурс сил, времени и желания, чтобы хватило его на короткий исследовательский вояж. Но знак выезда возник еще быстрее, и вскоре я покинул шоссе, вспомнив обещание дорожного указателя, что город не больше чем в семи милях к востоку.
За эти семь миль я умудрился заплутать из-за нескольких странных изгибов дороги и даже разок съехать на грунтовку. Пункт назначения не показывался до тех самых пор, пока я не въехал на вздыбленную хребтину крутого холма. На спуске еще один дорожный указатель известил, что я уже в черте Мирокава: показались особняком стоящие дома, за которыми шоссе вливалось в главную улицу города, Таунсхенд-стрит.