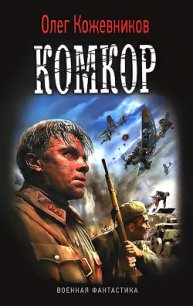Мёртвый хватает живого (СИ) - Чувакин Олег Анатольевич (читать книги онлайн .TXT) 📗
«Ты наймёшь новую вирусологиню, и она ляжет в твою постель. Отдельной-то квартиры здесь, дорогой мой, нет». И бесполезно было твердить Любе о новом мире или хотя бы о том, что на месте Любы не обязательно должна работать женщина. — «Нет, не обязательно, но ты-то возьмёшь женщину!» — «Я возьму тебя в новый мир», — сказал Владимир Анатольевич.
А то, сказала Люба, как бы не слыша его, после удачи с вирусом и газом выдающийся русский учёный Таволга пойдёт в гору. «По-женски нелогично!» — возмутился Владимир Анатольевич. Столько раз он объяснил Любе, на какую гору он собирается взойти! И звал на эту гору и её. Что ж, трупная ревность окажется добавочным доводом против шаткой живой морали!
Доктор подошёл к кушетке справа. Оберегая поясницу, Владимир Анатольевич присел немного, обеими руками обхватил труп чуть выше талии — так, чтобы при снятии с кушетки ударились о бетонный пол его ноги, но не голова, — стащил труп с кушетки и протащил до двери. Тут он его бережно опустил. Открыл дверь, зафиксировал её в открытом положении, выволок труп в коридор. Опустил тело на пол, закрыл холодильник. Несмотря на холод, доктору стало теплее. Труп весил килограммов под шестьдесят. Наверное, будучи живым, это тело весило все восемьдесят. Люба тоже сильно похудела. Хотя самое страшное похудение у неё впереди. Нет, не будет никакого похудения!.. Всё это уже в прошлом, хочет она того или нет!.. Хочет!.. У лаборатории, споткнувшись о выгнувшийся и порвавшийся кусок линолеума и поспешно опустив труп, доктор отёр на лбу пот. «Линолеум до дыр сносился». На ум доктору пришёл лозунг брежневских времён: «Экономика должна быть экономной».
Владимир Анатольевич ввёл цифровой код на пульте и нажал клавишу «Принять». Стальная дверь ушла в стену. Доктор втащил труп в первый лабораторный отсек, протащил мимо стола лаборанта и усадил у стены.
— Посиди-ка, дружок. Приятно иметь дело с трупами. Вы такие смирные, такие предсказуемые. Вы не спорите, не пьёте водку и не сквернословите. И никаких у вас аффектов. В живом мире слишком много живого!
«Человечество ещё скажет мне спасибо! Нет, вряд ли. Мне? Но кому нужно будет моё имя? Разве что обновлённые люди научатся читать и прочтут мои записки. Слава, признание, благодарность — пустяки, о них не стоит и думать. Вместо пустых чувств вроде щенячьей благодарности или желанья бить поклоны благодетелю новый холодный человек — о да, и духовно, и физически холодный, — будет заниматься полезной деятельностью. Будет выживать, учиться осваивать материальный мир, путешествовать по планете, наконец, отправится в космос. И он будет делать полезное двадцать четыре часа в сутки, и будет делать его вечно. Каких высот наука достигнет с новыми неутомимыми исследователями, нельзя и представить».
Доктор набрал код доступа на втором пульте, и внутренняя дверь плавно отъехала в сторону. Чувствуя, что он потеет, Таволга втащил труп во внутренний отсек, граничивший с его кабинетом, и подтащил к ножке хирургического стола. «Посиди, дружище». Включил свет. Поправил очки. Руки немного дрожали. «Стар я стал. Старость — не радость? В новом мире старости не будет».
Таволга немало прочёл философов-идеалистов (в начале девяностых многие из них, начиная с Соловьёва и оканчивая господами с философского парохода, стали популярны, и было интересно), но идеалистической философии не придерживался. Ему были чужды такие смутные воспеватели «красоты», как Владимир Соловьёв, или такие оголтелые, вполне языческие забияки, как Иван Ильин, с его «очищением молитвой» после боя и ортодоксальной ненавистью ко Льву Толстому. Доктор не верил в идеалы, по которым раз навсегда предлагалось переделать неустроенный мир (особенно в те не верил, где предлагалось экспроприировать, воевать, наталкивать в гулаги, убивать, очищаясь то молитвами, то «Интернационалом»), — но имел стойкое убеждение, что его-то идеал реален. Однако, поднимал палец доктор, мысленно возражая всем идеалистам, от Платона, Мора, Кампанеллы и до проповедника коммунизма Маркса, и до идеалиста от американской демократии Фукуямы, — мой новый мир не застаивается, не имеет «конца истории», а эволюционирует, как биологически, так и социально, — и потому о «раз навсегда» говорить не приходится. Я и сам не знаю, к чему придёт обновлённое человечество, — но я и не обещаю ничего, не обращаю неизвестное в известное. И вот ещё что: я, как и другие, узнаю!.. Это не социализм, слепо обещающий светлое будущее! Тут — все доживут!
Мой новый мир лишён аффектов, которые только и толкают разного рода страдающих мыслителей на проповедь идеалистического общества, оканчивающего собою историю, общества, в котором нет ни классов, ни каст, ни государства, ни денег, ни борьбы; нет противоречий, значит, в социуме внезапно отключается закон единства и борьбы противоположностей и нарушается принцип развития, социальной эволюции и отменяется прогресс, — о чём нарочно забывал Карл Маркс, мучаясь от неопределённости выводимого им коммунистического общества и стесняясь вопроса об общности жён — в отличие от своего откровенных предшественников Платона или Уэллса.
Подхватив труп за холодные, плохо гнущиеся в коленях ноги, и за шею, Владимир Анатольевич, попыхтев, уложил мёртвое тело на стальной стол и подвинул к его середине, к кольцам с ремнями и обручами. Застегнул ремни на шее, на груди, на животе трупа (руки стягивались этими же ремнями) и на коленях. Утром «обновлённая» девушка сучила ногами так, что доктору казалось: вот-вот ремни порвутся. Ремни бы не порвались. До этой девочки никто ещё их не натягивал, желая из-под них выбраться. Но Таволга испугался, отскочил от стола. Будто и не ждал успеха в открытии, будто по привычке ожидал ничего — и вслед за ничего продолжения однообразной жизни, с одинаково пустыми, ничем не оканчивающимися понедельниками, средами, субботами… В общем-то, Люба ревновала к не совсем мёртвой девчонке… Помимо ремней, для закрепления тела на столе имелись стальные широкие обручи, фиксируемые на лбу, в талии и на щиколотках трупа. Надев перчатки, доктор разжал мертвецу рот и вставил под губы, на зубы верхней и нижней челюсти, скобы, и повернул на столе до нужного положения эксцентрики. Рот мёртвого мужчины открылся, обнажив нёбо и неподвижный язык.
С внутреннего пульта управления доктор закрыл лабораторную дверь. С пульта же он опустил вдоль всех стен герметизирующие шторки. Из стального шкафа Владимир Анатольевич достал свой скафандр с тремя баллонами, убедился, что баллоны заполнены дыхательной смесью, и стал переодеваться. Разделся догола, до очков, взял из шкафа отрезок резинки, привязал к дужкам очков, попробовал очки — хорошо сидят, не свалятся и не давят, достал из упаковки памперсы, надел, оглядел себя в настенном зеркале: худое тело, седая борода, очки на резинке, памперсы, — и надел свою одежду: носки, рубашку, брюки, пуловер, поверх пуловера халат (чтобы ночью было теплее), а далее стал облачаться в скафандр. Баллоны потянули его назад, и доктор ухватился за край стола. «Стар, стар». Владимир Анатольевич привинтил к костюму шлем, выполнил внутрискафандровое вакуумирование и открыл клапаны баллонов. Всё было готово к проведению опыта. Последнего опыта! Возможно, последнего научного опыта впредыстории человечества.
Ощущая боль в пояснице, доктор наклонился, выдвинул из-под стола сорокалитровый контейнер со сжиженным пентаксином (поверху мелом: версия 68, написано в наклон, как бы курсивом, и это значило, что тут версия шестьдесят девять, та самая, что держится шесть часов; дата на крышке стояла пятничная, тоже курсивом), проверил, крепко ли сидит шнур питания и полна ли аккумуляторная батарея бесперебойника (4000 вольт-ампер), проверил на индикаторе показатели (объём газа в сорокалитровом контейнере 99,95 %; станет чуть меньше, что несущественно для завтрашнего мероприятия) и задал на дозаторе ту же норму выхода (0,05 %), которую опробовал утром на мёртвой девушке.
«Хоть бы трусы и лифчик на неё надел!» — сказала ему утром Люба. — Он парировал: «Трупы поставляются без трусов и лифчиков». — «Тогда я надену на неё свои. Хотя мой бюстгальтер этой красотке маловат будет. Откуда она такая, из стриптиз-бара? Из борделя? С местной студии порнофильмов?» — «Из детского сада. Воспитательница». — «Да ну?» — «А кто говорит, что о людях плохо всегда думаю я?» — «Делай, что хочешь». — «Порнофильм я снимать точно не буду. Ты правда не хочешь посмотреть, Люба? Неужели твоя ревность сильнее любви к науке?» — «Сильнее любви к тебе».