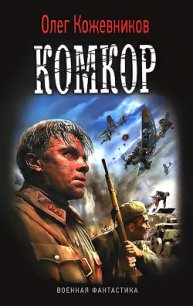Мёртвый хватает живого (СИ) - Чувакин Олег Анатольевич (читать книги онлайн .TXT) 📗
«Ты думаешь о том, — сказала она тихо, — что нельзя позволить недальновидным, желающим сделать свою жизнь лучше, сделать мир хуже? И о том, что единственный вариант применения — этот тот, при котором весь мир делается лучше, и недальновидные, хотят они того или нет, становятся его частью?»
«В биологическом плане мир людей несомненно станет лучше. Нет болезней, нет смерти, не страшен холод, ветер, зной, снег, дождь. Склонность вируса к быстрой мутации вызовет быструю эволюцию. Не могу сказать, что не хочу этого».
«Но в социальном плане? Необходимость адекватной биологической пищи для перестроившихся носителей пентавируса? Или ты находишь это побочным эффектом?»
«Теоретически плазме новых людей будет нужна энергия. Её поступление гарантирует адекватная пища. По меньшей мере, на первом этапе новой жизни. Дальше возможен эволюционный скачок. Мутация после длительной спячки, вызванной отсутствием пищи. И затем — перемена пищи».
«То есть мутируют лишь те, кто, попросту говоря, отведает человечины?»
«Да, Люба. Отведает — для того, чтобы никогда не отведывать больше».
«Как у Александра Грина. Это у него, кажется, персонаж говорит: я убью (украду, солгу) один раз, чтобы иметь возможность в дальнейшем оставаться честным».
«Предпочитаю первоисточник: человек, решившись разбогатеть любыми путями, спешит покончить гнусное дело, чтобы стать затем честным человеком до конца своей жизни. Бальзак».
«Значит, будущее в твоём представлении — за людоедами».
Он пожал плечами: «Будущее уже было за кроманьонцами».
«Ты представляешь нынешних людей настолько скверными, что твои идеалистические людоеды выглядят как чистильщики гнили. Что-то вроде кристально честных чекистов».
«Люба, я умоляю тебя, не будем ссориться. В вопросах морали я придерживаюсь того мнения, что вопросов морали не существует. И это не страшно звучит. Страшно то, что мир населён ханжами, взывающими к несуществующим богам и лгущими о добре, красоте, любви, «не убий» и президенте-батюшке».
«То, о чём ты говоришь, и есть мораль. Твоё понимание нравственности. Вот почему мне не хочется с тобой ссориться. Ссорятся глупцы; мы умны, и попробуем понять друг друга. Тебе нравится мир чистых, не лгущих, открытых людей, тебе нравится мир фанатиков науки. Ты любишь себя, доктор Таволга. И ты хочешь отплатить миру за то, что он не понимает и не любит тебя. Не перебивай. Это только один взгляд на тебя — взгляд примитивный. Тот, который господствовал бы на планете, сделай и примени ты своё открытие. А вот второй взгляд; можешь считать его моим. Ты идеалист с самыми высокими помыслами и со здоровой примесью научного материализма. Ты понимаешь, что нельзя переделать человека молитвой, выдуманными богами с их противоречивыми скрижалями, фашизмом, анархией или социализмом-коммунизмом, и ты берёшься переделать его наукой. И не просто переделать, подправить, а создать совершенно новое существо — с фантастическими возможностями, вплоть до бессмертия, но поведением существенно отличающееся от предыдущего человеческого вида. (Как звучи-то: предыдущего!..) И твоё отличие от идеалистов всех времён и народов в том, что ты не утверждаешь неизменного социального идеала, а, напротив, утверждаешь, что он будет подвержен эволюции. Мало того, что социальной, так в начале и биологической».
«Вот об этом только я и думаю, Люба».
«Платон тоже хотел, чтобы его миром правили мудрецы-философы. И у него не вышло».
«Я не утверждал, что новым миром будет кто-то править».
«Ну как же. Первые новые люди, вкусившие к тому же пищи прежде и, возможно, больше следующих, опередят следующих в эволюции».
«Тут пока нельзя ничего предсказать, Люба».
«Представляю себе, как я ем ректора медакадемии», — сказала она.
Это была единственная шутка её в том разговоре.
А он испугался. Он постарался улыбнуться, засмеяться шутке, но смех его вышел дрожащим.
Он боялся не того, чтобы Люба откажется участвовать в проекте, но что она не станет любить его. Что из-за ханжеской морали, которую он со школы ненавидел, а потом стал попросту холодно принимать как факт, Люба станет относиться к нему вначале отчуждённо, а потом безразлично. И они будут жить в этой квартире как чужие люди, вынужденные по контракту делать одну работу. И они продолжат спать в одной кровати и делать в кровати любовь, потому что привыкли её делать. И у них будет двойная христианская любовь к врагу.
Она потянула его за рукав. Он вздрогнул. «Пойдём в постель, — сказала она. — Мне хочется любить моего злого гения. Злые гении и все эти их проекты здорово возбуждают. Кстати, твоё пентачеловечество лишено будет возможности размножаться. И познавать любовные утехи».
«Размножаться люди не будут, но отпадёт и угроза перенаселения — и не станет повода для этой невыносимой болтовни о «золотом миллиарде». А любовные утехи… Люба, будь постель твоим главным занятием в жизни, ты не пошла бы в науку».
Он замолчал, а она продолжила: «Я пошла бы в проститутки. Или в содержанки к буржуа-извращенцу».
«Потеря не ощущается там, где не известно, что потеряно. И я думаю, у новых людей будет такая дружба, что и не снилась нынешним».
«И мы с тобой пойдём исследовать новый мир, взявшись за руки. Научная мысль тут ни при чём, ты просто веришь в это. Во взявшись за руки. Ты идеалистически принимаешь это. И ты говоришь, что вопросов морали для тебя не существует? Ты прав. Вопросов старой морали для тебя нет. Ты столь высок в идеализме, что мечтаешь о морали новой. А пока давай-ка займёмся тем, чем заниматься в новом мире нам не придётся».
«Ты и вправду хочешь в новый мир?» — спросил он, снимая рубашку.
«Глупыш. У нас и газа-то нет».
Ложась с нею в постель, он подумал: она, пожалуй, и не хочет, чтобы газ был. Чтобы они создавали его ещё 10, 20, 30 лет, до самой смерти, и жили бы здесь, и любили бы друг друга, и умерли бы в один день. По Грину.
А зимой ей поставили диагноз. Неоперабельный рак печени. 3-й стадии. Жаловалась ему: слабость, там болит, тут болит, ноги немеют; это всё климакс. Я буду ныть, ты терпи. И он терпел. Он терпел и свою боль: иногда Максим Алексеевич выводил его, скрюченного от остеохондроза, из подвала. Когда бывали у него приступы, без помощи труповоза или Никиты он не мог подняться на второй этаж. Он спал на матраце, положив ноги на стул (точнее, их брала и клала на стул Люба), поверх стула одеяло, под шею — валиком свёрнутое полотенце, — и в месяц, в два боль в пояснице полностью проходила. Потом он снова доводил себя до этой боли… Но то — остеохондроз. С которым можно жить. И даже хвастать тем, что ты, будто индийский йог, можешь спать на стуле.
А у неё был рак печени. От химиоэмболизации она отказалась. Ездила в Свердловск. Он с ней ездил. Отказалась наотрез. «Всё равно умру. Не надо продлять мои мучения».
«Как ты не заметила? — Владимиру Анатольевичу было так плохо — хуже, чем ей, наверное, — что он стал винить её. И тут же сам говорил: — Чехов, врач, у себя туберкулёз прозевал…»
«Ну, ты ещё помучь меня… Ты не объяснишь мне, мой друг, почему мне не хочется умирать?»
Они обнимались. И оба плакали.
И на юбилее она — при словах Максима Алексеевича о смерти — сжимала своими тонкими пальцами его руку, сознавая, что скоро умрёт — но уже зная, что последний опыт с шестичасовым газом прошёл успешно. Только она одна и знала. И она знала, что, кроме него и неё, это никому не известно. «Ты не умрёшь, Люба, — шепнул он ей, — ты никогда не умрёшь».
Люба не спала с ним с зимы. После того, как ей поставили диагноз («Приговорили», — сказала она), она больше не грела ему воду для сидячей ванны и, ложась спать на диван, отворачивалась к стене: «Мне больно лежать на правом боку». А он спал теперь всегда на матраце: «Мне лучше спать на матраце. Не то остеохондроз меня доконает. Принести тебе что-нибудь? Хочешь, я почитаю тебе?»
«Это несправедливо, — ревела она, — и я не могу быть мужественной… Я же женщина. Несправедливо… Я была здорова, когда не любила никого, и я больна, когда люблю… Послушай, Володя, объясни мне: зачем жить, если всё равно умрёшь? Умрёшь раньше, чем предполагаешь. Умрёшь раньше, чем налюбишься. Лучше уж не любить никогда. Лучше уж не рождаться».