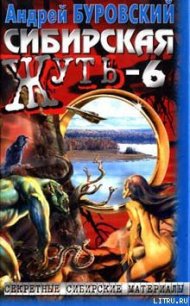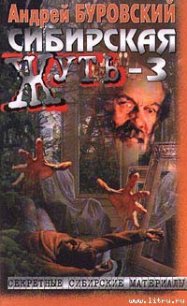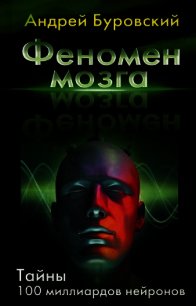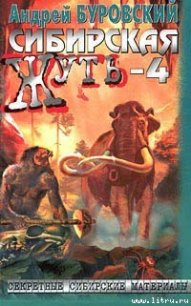Тайга слезам не верит - Буровский Андрей Михайлович (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Папа и сын действительно сидели в кабинете, разговор шел слишком серьезный. Горела лампа, бросала отсветы на стеллажи, на фотографии на стенах. Дымился чай, заполняя комнату ароматом.
— Понимаешь… — звучал тихий голос Михалыча, — не советую, тебе, сынок… Право, не советую. Тут даже по Священному писанию на них до четвертого поколения — проклятие… А Ирина, видишь ли, только третье. Думай сам, но я бы побоялся.
— Если дети будут? Так?
— А хотя бы и так. Если у вас продлится тесное знакомство, вы сами ахнуть не успеете, как окажетесь в одной постели.
Павел чуть смущенно усмехнулся, опустил глаза в столешницу. Зазвенела серебряная ложка с монограммами: папа размешивал чай в стакане.
— А если б там, в их семье… Ну, например, был бы наследственный рак?
— Тогда бы я сказал иначе… То есть тоже сказал бы: «Подумай». Но это было бы совсем другое «подумай», о другом. Мало ли какое несчастье может быть в семье… У нас тоже наследственность не ахти… Сердце, да и неврозы.
— Ну, а если бы… Вор, допустим? Или проститутка?
— Гулящая бабушка? — усмехнулся папа. — Гм… А знаешь, это все-таки меняет дело. Отказываться от девушки, потому что ее бабушка больна печенью — действительно гадко, сынок… но вот гулящая бабушка — это надо уже думать. Все-таки склонности к поступкам, в том числе к подлостям, тоже передаются по наследству… В какой степени — трудно сказать. Но все-таки не так уж страшно само по себе, даже эта гулящая бабушка. Тут надо знать все обстоятельства… Может, все еще не так и плохо. Скажем, деревенская бабушка, ее муж бил смертным боем, она и сбежала с гусаром.
Помолчали. Павел смотрел на отца пристально, исподлобья.
— А тут, в твоем случае, все еще серьезнее, сынок. Это уже не вор, не уголовник… Это, видишь ли, коммунист… Сталинский сокол.
Спокойная, взвешенная ненависть прозвучала в папиных словах. Наследственная ненависть, жившая в семье уже несколько десятилетий.
— Время такое… — негромко обронил юноша.
— В это время жили и твой дед, и прадед, и прапрадед. И ни за кем из них не тянется такого следа, как за этим… Ни одной ямы со скелетами, сынок. Так что не будем о времени, ладно?
Если бы рявкнул папа, если бы давил своей эмоцией, получилось бы совсем не так. Но папа говорил вполголоса, никак не давил, не пытался повлиять, и его чувства показывала разве что улыбка. Улыбка, при виде которой любой красный навалил бы в штаны и, уже не думая ни о чем, рванулся бы прочь, не разбирая никакой дороги.
— Но она ведь… ты же видел, она тут совершенно не при чем. Когда открыли яму, она сама сильно испугалась.
— Испугалась. Помню. И что девица не сама укладывала в яму покойников — тут я ничуть не сомневаюсь. Но и что ее же наследство раскопали — тоже помню.
И жестко, недобро усмехнулся:
— Какое ни есть, а наследство.
И тут грянул звонок входной двери. Павел сделал знак, папа кивнул. Паша пошел открывать. В дверном проеме, в свете коридорной лампы тихо стояла Ирина, и они с Павлом долго смотрели друг на друга. Молча стояли так долго, что Ирина успела принять решение, и в этот вечер сумела сделать очередной шаг от сопливой девчонки ко взрослой женщине.
— Можно, я войду? — разлепила губы девочка.
— Можно… — Павел сказал это тихо и хрипло и повторил уже громче и звонче: — Конечно, можно, Ирка.
И он молча наблюдал, как Ирка снимала свои туфли и плащ, искала тапочки, проходила в кабинет уже начавшего недоумевать удивленного папы.
При всех его недостатках, папа во всяком случае не был ни страшным человеком, ни свирепым. И если Ирка напряглась при виде упитанной туши, развалившейся в кресле между столом и стеллажом, на то были совершенно иные причины.
— Сколько лет, сколько зим… — изобразил папа улыбку и тут же выскользнул из кабинета.
— Сынок, можно тебя на минуту?
И когда Павел вышел, папа, улыбаясь, сообщил: он уезжает домой, к Елене, здесь появится… скажем, во вторник.
— Никак не хочешь с ней?
— И это… Но ты же видел, какое у нее лицо. У вас свой разговор. Сынок, ты совершенно уверен, что не сделал ей ребеночка?
— Нет, нет! — со смущенным смехом замотал головой Павел. Все-таки сложная биография папы оставляла свои следы, черт побери!
— Ну, тогда иди, попытайся понять, что случилось.
Папа и сын взглянули друг на друга в упор, прикоснулись головами друг к другу. И расстались. Папа пошел собираться, Павел вернулся к Ирине.
А Ира даже не успела сесть. Она так и стояла, не сняв кожаной куртки, посреди этой большой, сильно заставленной комнаты.
В кабинете сильно пахло бумагами, хорошим чаем. И еще чем-то неясным, неуловимым. Историей? Да, и историей тоже. Жившая в доме семья имела свою историю, в чем-то непохожую на истории всех других семей, и этой историей пахло. Ухоженным, благополучным домом? И им тоже пахло, несомненно. Но для Ирки главным было не все это.
В доме во всей истории живших тут лиц не было и тени советского сюрреализма. Жившие здесь никогда не боролись за Великую Идею, не строили общество нового типа, не превращали войну империалистическую в войну гражданскую, не экспроприировали экспроприаторов, не называли «социально близкими» уголовников, не пытались вывести новую породу человека ни в тайных лабораториях КГБ, ни в подземных городах, ни в пионерских лагерях, ни в лагерях особого назначения. Сотрудники ВПК, всяких спецназов, КГБ и ГРУ могли есть страсбургский пирог на золоте, но и это не стало бы соблазном для жителей дома. Эти люди никогда не получали денег, запятнанных человеческой кровью.
И поэтому в доме Михалыча явственно пахло нормальностью. Весь бред и вся кровь советской российской эпохи были бессильны перешагнуть этот порог. Наверное, в жизни любого человека должен быть такой дом… Дом с традициями и историей. Дом, в котором нет места крови, грязи и безумию. Наверное, ради такого дома и может, и должен солдат выбросить тело из окопа, матерясь, бежать навстречу визгу металла, огню и смерти. Потому что, если нет позади такого дома, если не вернуться в такой дом… То тогда зачем вообще бежать? Чтобы строить… эту самую… империю?! И девочка задохнулась, сообразив: ведь у деда никогда не было ничего подобного… Более того — дед убежал из такого… или почти такого дома. Зачем?! И вообще зачем все — фронт, дороги, огонь, смерть, стрельба?! К чему столько усилий, покойников, атак, лагерей, смертей, безумия?!
Если ему было необходимо построить другой дом, то он ведь его так и не построил. Ирина остро, всем существом чувствовала — вот ей это нужно позарез, немедленно. Чтобы дышать, чтобы чувствовать, чтобы разобраться с самой собой и со всем окружающим миром.
И когда тихо вошел Павел, Ирина обратилась к нему с очередной взрослой просьбой:
— Паша… Я не навязываюсь тебе, честное слово. Если ты не хочешь, я не буду тебе ни другом, ни… это самое… И завтра я уйду отсюда, правда… Но можно, я сегодня здесь останусь?
Естественно, такой вопрос не следует задавать, кому попало. Наверное, многие молодые люди поймут его весьма своеобразно и воспользуются девушкой в духе ублюдочных фильмов про американских суперменов. Но Павел вырос в доме, а не на советской помойке. Так что Павел понял совершенно правильно: что пришли вовсе не к нему. Девушка сбежала от чего-то… он понимал, от чего. Просто сбежала и воспользовалась знакомством с ним, с Павлом. Что готова платить собой за убежище, что ее сегодня можно взять. Но что отдастся она без страсти, просто честно рассчитавшись за услугу. А если что-то с ее стороны и будет, то не сейчас. Что воспользоваться ее слабостью или не воспользоваться, зависит от того, что тебе нужно.
В голове у Пашки всплыл ехидный голос папы, читающего Величанского:
— Юбку деве задрав, не найдешь ты там дивного дива.
Дивного дива ища, юбку ей не задирай.
Пашка, впрочем, и сам еще не знал, чего ему нужно, и нужно ли вообще хоть что-нибудь от Ирины.