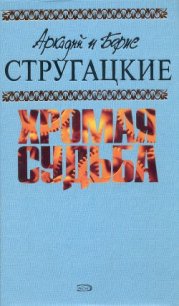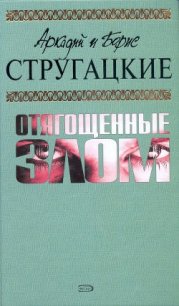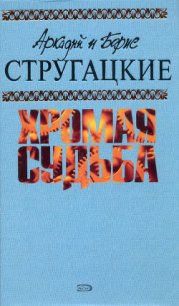Хромая судьба - Стругацкие Аркадий и Борис (лучшие книги читать онлайн txt) 📗
Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков – тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается…
А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки «Современных сказок» и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей…
Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.
И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:
– А ты у нас рисковый мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовременье, а?
Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим… как его там… с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову… Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же, припомнят, обязательно припомнят!..
Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.
В начале декабря знакомый мой редактор из «Московского плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не боись, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в предынфаркте». Повесть действительно была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный «Московского плейбоя». Нет, поперли его за то, что он «ел хлеб беззакония и пил вино хищения». И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так и этак…
И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал – не без оснований, впрочем, – что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.
Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.
И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.
Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века – красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилось отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, – ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.
Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу!
– Я вам отобрала, Феликс Александрович, – произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. – Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.
Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера «Прапорщика» с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием «Стережем небо!».
И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье…
Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.
И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстуке бабочкой и при газете «Морнинг Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.
А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные, – то ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова.
А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.
Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза – сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта…