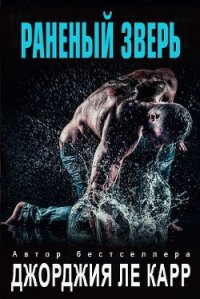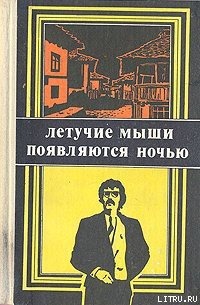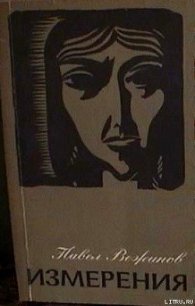Барьер - Вежинов Павел (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt) 📗
— Как кто? Карбонарии! — ответила Доротея убежденно.
Практически здорова! С чем я и поздравляю доктора Юрукову! Уж не решила ли она переложить свои заботы на меня? Неплохая идея! Человек богатый, свободный, что ему стоит позаботиться о несчастной больной девушке. Но Доротея сама, похоже, поняла свою ошибку, потому что смущенно добавила:
— Что за глупости я говорю… Это просто от страха.
— Кто-то тебе наболтал про карбонариев, — сказал я недовольно. — Совсем они были не такие.
— Конечно, я знаю! — согласилась она. — Это мне из какой-то дурацкой книги запомнилось.
Потом, внимательно посмотрев на меня, спросила:
— Тебе доктор Юрукова все рассказала?
— Откуда я знаю, все или не все, — ответил я.
— Ну хотя бы главное.
— Полагаю, да.
— Ну и ничего страшного! — сказала Доротея почти сердито. — Лучше воображать себя кем-то, чем быть никем.
— Забудь об этом. Дай-ка я посмотрю, что ты сделала.
Лицо ее тут же просветлело, она принесла мне целую стопку нотных листов. У меня опять было такое впечатление, что она не переписала ноты, а сфотографировала их, так они походили на написанные мной. Я, правда, сам умею красиво писать, но все же я поразился ее способностям. Человеку, сумевшему выполнить такую работу, вероятно, многое по плечу. Не тогда я еще не подозревал, насколько это банальное суждение соответствовало истине.
— Да, хорошо, — сказал я сдержанно. — Быстро ты это освоила.
Я смутно понимал, что ее не следует сильно хвалить.
— Ну конечно, книгу лучше переписывать. Здесь ведь не понимаешь, что пишешь. Но все-таки я уже запоминаю сразу по целой строке. Без ошибки.
На этот раз я не сомневался, что она говорит чистую правду. Без этого такую стопку нотных листов не перепишешь.
— Научишь меня их читать? Очень тебя прошу!
— Это не так-то просто.
— Ничего. Мне прямо до смерти хочется узнать, что там написано. А вдруг что-то очень хорошее.
— У меня все хорошее! — засмеялся я. — Ты ела?
— Нет! — ответила она удивленно.
— Хочешь, пойдем куда-нибудь?
— Сейчас? Нет, не хочется. А у тебя ничего не найдется?
Общими усилиями мы кое-что наскребли: масло, джем, по два яйца всмятку. Только хлеб был ужасно черствый.
— Прямо зубы обломал, — заметил я.
— Зуб сломал? — спросила она огорченно.
— Да ведь я шучу.
— Не люблю я шуток, — ответила Доротея. — Не понимаю я, когда шутят, а когда говорят серьезно. Из-за этого и на смешные фильмы не хожу. Все смеются, а мне плакать хочется.
Мать мне рассказывала, что я тоже обливался слезами, когда мальчишкой смотрел «Новые времена». Решил, что Чарли Чаплина вправду затянуло в машину.
— Может, ты и права, — сказал я.
— Конечно, права! — воскликнула Доротея. — Что смешного в том, что человека толкают, бьют, сбрасывают с балкона…
Ну что ж, логично. Не слишком похвально так откровенно смеяться над чужими бедами и несчастьями. Но хотя Доротея не походила на всех прочих людей, наш скудный ужин она уплетала с отменным аппетитом. Когда я принес и положил на стол яйца, она посмотрела на них почти с нежностью.
— Знаешь, как я давно не ела яйца всмятку!.. С тех пор, когда еще был жив мой отец. Он их очень любил.
Я почувствовал, как она вся сжалась, взгляд ее потух. После сегодняшнего славного, удачного дня этого нельзя было допускать. Я достал из холодильника уже начатую бутылку «Каберне», поставил на стол бокалы.
— Мне не наливай! — сказала она.
— Почему? — удивился я.
— Доктор Юрукова не разрешает.
Ну раз так, делать нечего. Я налил одному себе. Но Доротея не сводила глаз с бутылки, она, видимо, сильно колебалась.
— Налей и мне полбокала! — сказала она. — Не каждый день поступаешь на новую работу, да и вино не отрава.
Я налил ей чуть больше половины, из вежливости, разумеется. У меня не было никакого желания ее спаивать. Но она опьянела от нескольких глотков. Лицо ее разрумянилось, во взгляде появилась чуть заметная рассеянность, по которой моя жена безошибочно угадывала, выпил я одну рюмку или три. Доротея стала вроде бы еще тоньше и как-то вытянулась на стуле, точно превратившись в стебелек цветка.
— Как у меня голова закружилась, — сказала она. — Можно я пойду лягу?
— Да, конечно… нам ведь утром рано вставать.
На всякий случай я довел ее до холла. Ничего, походка у нее была ровная. Но, глядя ей вслед, я отметил, что уши у нее покраснели, как вишни.
— Ничего, ничего, ляг поспи!.. Завтра ты чудесно будешь себя чувствовать.
Но она продолжала упорно смотреть на меня затуманенным взглядом. Вид у нее был довольно смешной.
— Если хочешь, можешь остаться со мной! — заявила она вдруг.
— Не волнуйся, здесь тебе это не угрожает!
— А я волнуюсь, — сказала она. — Я не люблю оставаться в долгу.
Тон у нее был почти дерзкий. Я никогда потом не слыхал, чтобы она говорила таким тоном. Но это был и последний глоток вина в ее жизни.
— А я не привык, чтобы мне так дешево платили, — довольно резко бросил я. — Спокойной ночи!
Она промолчала. Я ушел в спальню, расстроенный не столько ее, сколько своими словами. Безусловно, я мог бы найти более вежливый и подходящий ответ. Но главное было не в этом. Была ли в моих словах какая-то доля правды? Честно говоря, да. И дело не в том, что Доротея капельку выпила и вообще была не в своей тарелке. Разобраться в своих ощущениях мне было не так-то просто. В самом деле, она не была мне неприятна физически. И производила впечатление милого и безобидного существа. Но все же между нами лежала какая-то преграда, о существовании которой я раньше не подозревал. Может быть, инстинктивное отвращение к болезни, даже когда она не заразная. Может быть…
5
Она осталась жить у меня, хотя мы не сговаривались об этом, так просто, как голубь, приютившийся на моей террасе. Вставала она рано; бесшумно, как тень, двигалась по огромному пустому холлу и уходила так тихо, что даже если я уже не спал, то все равно не слышал ни ее шагов, ни щелканья замка. Только гул водопроводных труб в ванной подсказывал мне, что она встала и моется. Потом я видел ее влажное полотенце, висящее на крючке. На полочке перед зеркалом появилась ее маленькая зубная щетка. Скоро я заметил, что она моется и утром и вечером с такой невероятной старательностью, словно хочет смыть с себя тяжелый больничный запах, воспоминания, все до последнего пятнышка своей прошлой жизни. Она отмывалась и становилась все чище, все прозрачнее, все воздушной. И в то же время все спокойнее. И вся она словно светилась чистотой, от воротничка до кончиков туфель. Даже походка у нее изменилась — она уже не переступала, как чайка, шагающая по берегу моря. Все в ней сделалось умиротворенным, губы ее словно стали сочнее, даже ее унылый нос казался мне теперь вполне нормальным. Доротея уходила на работу к семи и неизменно возвращалась в четыре. Я не знал, где она питается, мне было как-то неудобно спрашивать. Да поначалу и она сама была неразговорчивой — никогда не говорила ни о своем прошлом, ни о будущем, только о самых простых будничных вещах. Но и в этих случаях она изъяснялась отрывистыми, незаконченными, если не сказать непонятными, фразами. Сначала я полагал, что это от недостатка ума. Позже я понял, насколько был несправедлив. Просто она говорила с людьми, которых носила в себе, с которыми сжилась душой. Они должны были понимать ее так же, как она иногда угадывала даже их помыслы. Но постепенно она стала разговорчивой, даже словоохотливой — болтала о цветах, о деревьях, об уличных витринах, рекламах бюро путешествий, о самолетах, с гулом проносившихся над городом. Только о людях не говорила, даже о своих сослуживцах.
Она никуда не выходила, не интересовалась, что происходит за стенами нашего дома. Не смотрела телевизор, просто, как кошка, не воспринимала его изображения. Когда я читал, она сидела неподвижная и задумчивая, но я чувствовал, что она не скучает. Она, как я полагал, носила в себе все, что ей необходимо, — до последнего цветка или травинки. Все, что было вне, она вбирала внутрь и могла созерцать часами, словно оно непрерывно рождалось и изменялось у нес на глазах. Редко-редко я замечал бледную улыбку на ее губах, словно в уме у нее всплывало воспоминание, одно-единственное, которое она оберегала, как величайшую драгоценность.