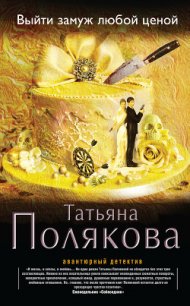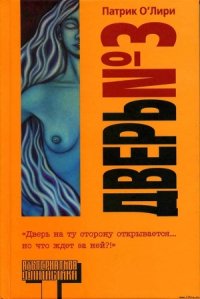Живые люди - Вагнер Яна (книги без регистрации .txt) 📗
– Я всё исправлю, – сказал он нам прежде, чем сесть в лодку. – Всё будет хорошо. Дайте мне неделю – одну неделю, и мы уедем, нам нельзя здесь, вы сами знаете, нам больше здесь нельзя.
И хмурый Мишка отвёз его на берег и вернулся на лодке один.
Тридцать восемь одинаковых дней спустя вопросы «когда?» и «почему?» успели побледнеть, выцвести и почти перестали нас мучить; по крайней мере, на них мы знаем ответ. Их место мгновенно заняли другие, и безусловными фаворитами среди них по-прежнему остаются «где?» и «как именно?» – и стоило нам осмелиться заговорить о них, мы тут же поняли, как много доступных и разнообразных способов умереть готова предложить тайга самонадеянному одиночке. Болото или сломанная нога. Медведица с парой детёнышей, стая облезлых волков, гадюка, заползшая в спальный мешок. Разбившийся компас. И вирус, дремавший на том конце маршрута, вполне мог оказаться ни при чём, поскольку любая из этих случайностей, которые мы сумели предположить, точно так же, как и любая из тех, что даже не пришли нам в голову, способна была остановить Серёжу ещё по дороге в Гимолы – он мог до них не дойти. Пожалуй, у нас остались и другие вопросы – из тех, что не принято задавать вслух. К примеру – что именно он имел в виду, когда сказал, стоя в лодке: «Я всё исправлю»? Мне правда хотелось бы это знать – хотя чем больше проходит времени, тем меньше у меня шансов догадаться.
Недавно она коротко обрезала волосы – неровно, обычными ножницами, и теперь, когда мы склоняемся над водой, дрожащие и нерезкие отражения наших лиц ничем больше не отличаются одно от другого. «Ты подумай, – говорит она без злости, – жук, ну какой же жук, опять он сбежал, выкрутился, как всегда, лишь бы со всем этим не возиться», – и тихо смеётся, качая головой. Я погружаю в озеро ладонь и стираю её улыбку.
Когда не знаешь, что делать дальше, делай что должно, и будь что будет. Жаль, я не помню, кто это сказал. Теперь, когда все вопросы заданы, а ответов у нас не осталось, мы можем только это – развешивать под солнцем белые простыни, хлопающие, как паруса. Перешивать из грубого негнущегося военного камуфляжа детские куртки и штаны. Сушить грибы. Солить рыбу. Учиться не спрашивать – что с нами будет дальше.
Эпилог
Крошечный, не заслуживший даже имени синий кружок размером с подушечку указательного пальца на двухкилометровой карте на самом деле оказывается широким водоёмом с неприступными крутыми спусками, заросшими осокой и камышами, он преграждает нам путь так же надёжно, как пятиметровая бетонная стена. У нас нет лодки – нести её оказалось слишком тяжело, и мы её бросили – давно, три дня назад, повесив туго спелёнутый резиновый кулёк на дерево на уровне глаз, надеясь, что сможем найти её на обратном пути – в том случае, если нам придётся идти обратно, в том случае, если мы сумеем вернуться той же дорогой.
На следующей стоянке мы оставили воду, два спальных мешка, связку железных кружек и половину патронов. Густо исчёрканная синим карта обещает нам, что по крайней мере жажды бояться не стоит, но мы двигаемся пешком, дети не могут идти быстро – на самом деле, слишком часто дети не могут идти вообще, а нам слишком трудно нести их, и поэтому маленький папин термос нередко успевает опустеть задолго до того, как мы добираемся туда, где его можно наполнить заново. Ружья бросать нельзя – ночной лес наполнен чужими голосами, треском и шорохом – особенно теперь, когда мы свернули с заросшей грунтовки; но если мы не доберёмся сегодня к вечеру, если нам хотя бы ещё один день придётся брести, проваливаясь по щиколотки в топкие мхи, перелезая усыпанные поганками мокрые опрокинутые деревья, таща на себе хныкающих обессилевших малышей, вдыхая кислый запах собственных зудящих тел, мы бросим и ружья.
Безымянная плоская серая тарелка, недоозеро, нелепая неглубокая лужа, которую мы не ожидали и которую придётся теперь обходить, вызывающе торчит из-за рыжих сосновых стволов. Это значит – лишних два или три километра. Болото со скользкими подвижными кочками, убегающими из-под ноги. Это значит – дети идут пешком, рыдая и жалуясь, вырывая из наших рук липкие маленькие ладони, садясь на холодную землю.
Мишка опускает девочку, выскальзывает из рюкзака и отклеивает от спины измятую майку с темными пятнами пота, сжав зубы, растирает плечи – искусанные, с двумя яркими вздутыми полосами от брезентовых лямок. «Вот, – говорит он, втыкая грязный палец в растрёпанный комок карты, – вот оно, похоже, мы здесь». «Похоже… – стонет Ира и скидывает в сухую лежалую хвою скрученные спальники и ружьё, – похоже или точно?» «Точно, – отвечает он хмуро и неуверенно, – хочешь, сама посмотри, теперь обойти его только – вот тут, справа, и дальше по прямой, сегодня не успеем, конечно, но завтра – всё, завтра дойдём». «Мне надо было засечь, в который раз ты это говоришь», – мрачно язвит она и садится прямо на землю, прислонившись спиной к кривому берёзовому боку, с облегчением разбрасывая ноги. «Надо спуститься, – предлагаю я, – умыться, воды набрать». «Я сейчас, – устало отзывается Мишка, не трогаясь с места. – Сейчас». «Пить хочу, – сразу же вспоминает мальчик у меня на руках и крутится, как пойманная рыба, и вытягивает шею, – пить хочу, мама, пить хочу». «Вот и идите, – глухо говорит Ира, свесив голову, я вижу только её спутанные влажные волосы и узкий бледный затылок. – Идите, идите без меня. Я вас тут подожду. Мама сегодня не будет умываться. Мама сейчас ляжет и сдохнет». Она возится, опускаясь на локти, пристраивая голову. «Ты сидишь в муравейнике», – замечаю я без выражения, и она вскидывает на меня круглые светлые глаза – я надеюсь, что она улыбнётся, но заранее никогда не угадаешь. Этот многодневный поход обходится ей дороже, чем мне и Мишке, дороже даже, чем нашему трёхлапому псу. Мы не даём ей нести детей и отняли у неё рюкзак, но вот уже два дня она отказывается от еды и почти не может идти, и высокие расшнурованные ботинки режут ей посиневшие и страшно раздутые отёкшие щиколотки.
Именно в это мгновение, пока я жду, улыбнётся она мне или заплачет, он звучит снова – ровный глубокий голос, заставивший нас бросить безопасный остров и нырнуть в тайгу. Сегодня он опять ближе и отчетливее, чем накануне.
Каждый день, много часов подряд слушая только хруст умерших веток, сырое чавканье под ногами и собственные бессильные выдохи, мы успеваем забыть его и усомниться в том, что вообще его слышали – невозможный здесь, подмосковный, успокаивающий и далёкий стук железных колёс, грохот бьющихся на жёстких сцепках, вырывающихся тяжёлых вагонов.
Уютный и сонный воскресный звук из дачного детства: скрипящий выгоревший гамак, солнце, проникающее сквозь шелестящие, смыкающиеся над головой кроны, звон тарелок с веранды, бабушка накрывает к обеду, мама идёт со станции с кульком бледной земляники, до школы полтора месяца. Шесть дней назад он раздался впервые – точнее, впервые мы узнали его, выплели из скрученных между собой птичьих голосов, плеска воды и шелеста листьев – «Поезд, Ира, это поезд, поезд», – и мы ревели, захлёбываясь, больно столкнувшись головами, хватая друг друга за руки, обнимаясь, отмахиваясь от озадаченных визжащих малышей, гадая: сколько дней подряд он звучал неузнанным? сколько дней мы уже потеряли? А потом швыряли вещи на пол – где-то была, где-то точно была эта чёртова зелёная книжечка… Вот, вот – она здесь одна, проложенная сквозь зелень и синеву, сквозь редкий топографический курсив железнодорожная ветка, совсем недалеко, полтора сантиметра в лаконичном автомобильном масштабе и тринадцать – в другом, подробном. Нельзя заблудиться, нельзя не найти – долгая прерывистая полоса, и в каком бы месте мы ни вышли к ней – нам нужно будет просто ждать. Просто ждать, потому что всякий поезд – это машинист, проводники, охрана и живые люди по обе стороны – в точке отправления и там, куда он адресован, и мы остановим его, заставим его затормозить и забрать нас отсюда.