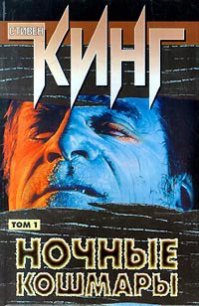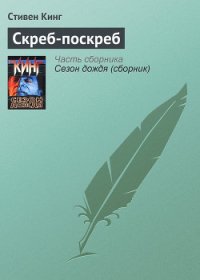Пещное действо - Етоев Александр Васильевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Жирная туша свиньи была накрест перехвачена поясом, от пояса тянулись ремни, привязанные к бамперу «самоедки».
Машина на свиной тяге ехала неходко и вяло. Колеса ее вихляли, а на стекло на оконцах фар словно выплеснули из поганых ведер. Пучков вскинулся, хотел закричать, но Жданов успел залепить ему рот ладонью. Глаза его зло сверкнули, а тяжелый, потный кулак закачался возле носа Пучкова.
В «самоедке» на заднем сиденьи, связанный, сидел Зискинд. Голова его свесилась на сторону, но был он не мертвый, а слабый. Когда машина оказалась напротив них, прячущиеся в виноградниках услышали тихий голос.
– …Ты, товарищ мой… – услышал Жданов, и ржавая иголка тоски кольнула его в край сердца.
– …Не припомни зла… – донеслось до опечалившегося Пучкова.
– …Схорони… – послышалось Капитану, и когда слова оборвались, съеденные дорожной тьмой, первый выбежал на дорогу.
От проехавших, кроме запаха пыли, не было никаких следов. Пыль еще висела с минуту, потом свернулась в маленький завиток, но скоро пропал и он, затянутый в черную тень дома в конце дороги.
– Уехал. – Капитан нагнулся, взял щепоть пыли и втянул в себя ее горький дух.
Пучков, разламывая виноградную стену – шумно, яростно, не таясь, – смотрел то на дом, то на лес, они были одинаково черные, одинаково тянули к себе и равно сулили смерть.
– Едем, теперь крадемся. – Он засопел как маленький, обдумывая какую-то мысль.
– Хочешь, чтобы тебя, как Зискинда? На свинье? – с ухмылкой спросил Жданов. Он сидел на своем мешке, невидимый среди спутавшейся лозы.
– Свинобес, – сказал Капитан.
– Вот-вот, – кивнул из темноты Жданов.
– А ну вс[/]е в задницу! – Пучков развернулся к лесу. – Как хотите, а я туда.
– Куда?
Они посмотрели на лес. Размытая, черная, словно горелая головня, тревожная, насупленная, осторожная, страшная, голодная, с крокодильим оскалом, раздувшаяся, как недельный утопленник, тяжелым натруженным жерновом перетирающая жизнь в смерть – от них на расстоянии вскрика стояла лесная сила. Сотни маленьких огоньков шевелились возле подножия тьмы. Они визжали и всхрапывали, раздавался электрический треск, когда щетина скреблась о щетину, и спирали гаснущих искр выхватывали из темноты деревья.
– Иди, – сказал Жданов, – а я еще поживу. Вон, возьми с собой Капитана. Ему все равно, кто его будет жрать.
– Пойду, – упрямо сказал Пучков и сделал шаг к лесу.
– А она? – сказал Капитан и опустил голову.
В горле у Пучкова заклокотало, он с силой ударил о воздух и прокричал:
– Она! Вот именно – она!
Он зашагал по дороге, не оборачиваясь, и скоро его фигура пропала.
Капитан молча проводил его взглядом, а когда смотреть стало не на кого, сказал:
– Вернется.
– Знаю, – угрюмо ответил Жданов.
– Владик, Владинька, ты и я…
– А здесь, Аня, в подвале у меня лифт. Кнопка вот.
– Да Бог с ней, с кнопкой, расскажи еще, как ты меня увидел в лесу.
– Анечка, давай после. Я двадцать раз тебе уже говорил.
– Ну хочу. Какие кругом были деревья, как солнце в верхушках светило, как у меня играла щека.
– Вот и сама все рассказала.
– Хочу, чтобы ты.
– Потом, попозже. Кнопка, посмотри. Под фальшивым камнем, это чтобы никто чужой не узнал. Вот я ее нажимаю. Нажал. Стальная стена отходит, кирпичи на ней только для видимости…
– Владик, ты меня сильно любишь? И не разлюбишь?
Цепеш легко улыбнулся, потом засмеялся, откинув голову и топорща бронзовые усы, потом схватил Анну в охапку и закружил – быстро-быстро и целуя, целуя – в губы, в руки, в мягкие завитки волос, в глаза.
– Умру, отпусти, люблю. Какие у тебя руки сильные.
Цепеш стал кружить ее медленно, и небо над их головами стало кружиться медленно и скоро замерло, вонзив якори облаков в неровные зубья стен. Он осторожно поставил ее с собой рядом. Анна Павловна стояла, глаза зажмурены, губы полуоткрыты, на губах блестка улыбки. Влад взял ее руку в свою и вжался горячей щекой в горячую подушку ладони.
– Любишь, – тихо сказала она. – Люблю, – повторила она еще тише.
– Люблю, – громко сказал Влад, и Анна Павловна открыла глаза. – Пойдем, я тебе еще не все показал. Там у меня столько всякого хлама. Вообще-то все это очень интересные вещи, и ценные, но для меня они – так, игрушки. Нет, я их очень люблю.
– У вас так рано темнеет, как у нас – в августе. Солнце почти село. – Анна Павловна посмотрела на западную стену двора, хотела увидеть солнце, но не увидела, вместо солнца, словно хребет разлегшегося по верху стены дракона, тянулись сточенные зубцы.
– Валахия – сумеречная страна, солнце обходит нас стороной, а если бы я не нашел тебя, солнце вообще бы погасло. Анечка, ты сама – солнце. Солнышко. Хочешь, я тебе покажу мое ртутное озеро? Когда над ним зажигаешь свечу, так красиво… Не знаю, что и сказать, так красиво. Хочешь?
– Хочу.
Лифт был простенький, как в ее старом доме на Моховой, зеркало в деревянной раме, тусклое и в морщинах трещин. Лампочка в стеклянном чехле. Чехол – мутный и красный, и лица их сделались красными, так что смотреть страшно. Кнопок с цифрами этажей не было, и когда лифт мягко пошел, она так и не поняла, куда они едут – вниз или вверх. В зеркале отразился их поцелуй – долгий? короткий? – он длился, пока дверцы не разошлись, и Цепеш, обняв ее за плечи, не вывел наружу.
– Ты веришь в счастье? – спросила Анна Павловна, разглядывая ракушечный грот, в котором они оказались. – Я раньше в него верила иногда, только оно всегда было какое-то маленькое, как брошка или натертый пятак. А сейчас знаю, что оно есть. Есть и все.
– Пятак – смешно.
– Правда? Это память о моем первом муже. Однажды он поехал на теплоходе в Швецию, или в Данию – куда-то туда. Так он там натирал пятаки, чтобы они блестели, и на каждый пятак выменивал себе крону. Он тогда «форд» себе оттуда привез, и всем рассказывал, что тот ему в шестнадцать рублей обошелся.
– Ловко. Расскажи мне о нем.
– Влад, я уже не помню. Про пятаки помню, а про мужа – нет. Я сейчас думаю, что у меня его вообще не было. Был, и не было.
– Он любил тебя?
– Наверно, и сейчас любит. Какое красивое зеркало.
– Оно из Венеции, очень старое, от одного дожа. Значит, любит?
– Из Венеции? Ой, на нем трещины.
– Это пуля.
– Ой.
– Смешная история, как-нибудь расскажу. Здесь моя домовая церковь.
– Здесь, в гроте? А я не крещеная. Я всегда думала, Бог – что-то такое далекое, страшное. Далекое и холодное. Как смерть. – Она вдруг остановилась и засмеялась, смехом прикрывая испуг.
– Бог – это огонь, – сказал Цепеш. – Я верю в огонь. Есть редкое старое слово, которое я оченю люблю. Огнепоклонник. Я – огнепоклонник.
– Здесь так холодно.
– Ну, это пока, скоро здесь будет жарко. И будет много огня, ведь ты тоже любишь его больше всего на свете.
– Анна кивнула, потому что знала, потому что любила, потому что горела в любви, и пламя было выше звездного света.
Влад заглянул ей в глаза и, увидев это, сказал:
– У тебя странная несовместимость с мужьями. Как будто ты их сжигала заживо.
– Что ты, Влад, я всех их очень любила.
Он кивнул:
– Да, как любит огонь – сжигая.
И подумал: «Теперь твой огонь я».
– Я всех их любила, но чем больше я их любила, тем они делались почему-то меньше и меньше. А потом наступал момент – кажется, вот человек, близко, а рукой потянешься – нет его. Наверно, все эти годы я прождала тебя. Так долго.
– Все проще. Такая у тебя кровь – кровь королей.
Анна Павловна рассмеялась:
– Если так, то ты говоришь мне об этом первый.
– Потому и с мужьями у тебя выходило плохо. Я знаю. Кровь, она как огонь – очень много значит в судьбе. Хочешь, я открою тебе одну свою тайну? Здесь, в доме, у меня лучшая коллекция образцов человеческой крови. Другой такой ни у кого нет.
Сколько сил, денег, веков он потратил, пока ее собирал. В ней тысячелетия, в ней вожжи, которые правили временем. В ней – всё, и это всё – здесь, у него в доме. Кровь великих фамилий – Цезари, а до них – Македонец, по капле – ото всех есть. Европа, Восток, Россия – есть, есть, и ваши цари, и те, кто после царей. И люди – великие из великих, назови кого вспомнишь – есть, капля, одна лишь капля, запертая в драгоценном стекле, – но каждая такая капля стоит потоков, морей, океанов крови всех их. – Цепеш отбросил руку туда, где под плоской небесной крышей, под рвущимися на ветру облаками, за призрачной толщиной стен смеялись и слезы лили, и стрелялись, и стреляли в других, любили и не любили, и предавали тысячу раз на дню, чтобы громче скулила совесть, чтобы исповедью заткнуть ей пасть, чтобы, рожая детей, не родить крысоголовых уродов, которые только и ищут, как бы пожрать отцов, – бесчисленное число песчинок, таких мелких, что глаз уставал различать их среди зыби земли.