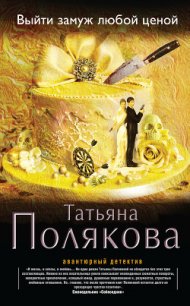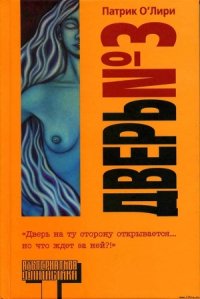Живые люди - Вагнер Яна (книги без регистрации .txt) 📗
Она обводит нас взглядом – мы чувствуем это, не поднимая глаз, она оглядывает нас, одну за другой, и считывает нашу растерянность и разочарование.
– Вы что, правда думали, я о нём буду говорить? – спрашивает она насмешливо, с вызовом. – Нет, серьёзно? О нём?
Я не успеваю ещё подумать о том, что и мне теперь – а сейчас моя очередь – неловко, нехорошо, нельзя говорить о нём, а ведь я, наверное, больше ни о чём другом уже не умею говорить, как откуда-то снаружи, не-издалека, прямо над ухом раздаётся треск обмороженных веток и хруст шагов по снегу. Пёс, встрепенувшийся, взвивается, выгнув дугой жёлтую худую спину, и рычит – тяжело, низко, предупреждающе. Мгновение-другое мы рассматриваем туго зашнурованные ботинки, прорвавшие оранжевый и непрочный дрожащий круг света, отбрасываемый нашим костром, и только потом набираемся смелости и смотрим на него.
– Уютно у вас, – говорит Анчутка, улыбаясь нешироко и скупо. – Гостей принимаете?
Он один. Больше никто не пришёл.
Прежде чем мы успели задаться вопросом, что ему нужно здесь, зачем он перешёл озеро в темноте, один; прежде даже, чем мы успели испугаться по-настоящему, Ира легко и быстро вскочила и, наклонившись, качнувшись вперёд совсем немного, почти незаметно, протянула руку и выдернула из сугроба топор, тяжелый, с гнутой исщерблённой рукояткой, и встала ровно между, отгородив нас, всё ещё сонных, раскисших, медлительных, от Анчутки, стоящего спокойно, не шевелясь, в десяти шагах, и вздёрнула подбородок. Просто встала, ничего не говоря, широко расставив тонкие ноги, и топор, тускло поблескивая толстым рыжим лезвием, слабо покачивался в её руке. Поднимайся, сказала я себе, поднимись сейчас же, и оглядела вспаханное рыхлое пространство вокруг костра, – она была где-то здесь, совсем рядом, я только что её видела, где же она. Ноги совсем не слушались, ватные от страха и спирта одновременно, мне пришлось встать на колени и погрузить руку в холодную снежную кашу, обжёгшую пальцы, и только тогда я её нащупала – толстое стекло уже успело покрыться невесомой ледяной сеткой, мгновенно превратившейся в воду внутри моей испуганной ладони, но я ухватила бутылку, как могла крепко, за узкое скользкое горло, чтобы не дать ей выскользнуть, и только потом с трудом поднялась, остро жалея о том, что мы столько выпили, идиотки, – сколько же мы выпили? Кажется, нужно сейчас разбить её, непременно нужно разбить, иначе не будет никакого толку, если просто ударить по этой крупной тяжелой голове – пустая бутылка всего-навсего лопнет, как лобовое стекло в автомобиле, рассыплется на неострые одинаковые осколки.
Вокруг, как назло, не было ничего твердого, до мостков не добежать – далеко, а её нельзя, никак нельзя было оставлять там одну с этим ее дурацким топором, она и поднять-то его не сможет, наверное, не говоря уже о том, чтобы как следует размахнуться; я перехватила бутылку поудобнее, – ругая себя за слипающиеся глаза, за то, что предательская вытоптанная полянка медленно, тошнотворно кружится и качается вокруг моей головы, за то, что каждое простое движение стоит мне таких чудовищных усилий, – и шагнула к ним, замершим лицом к лицу, разделенным только невысоким, бессильным огнём и оскаленной тощей собакой, и встала тоже, чувствуя жар, исходящий не от пламени, а от хрупкого узкого тела рядом, мечтая об одном – не упасть раньше времени.
Еще через секунду позади меня – отворачиваться, чтобы посмотреть, было нельзя – вдруг захрустело, завозилось, и я почувствовала прикосновение – слабое, скользящее, где-то на уровне коленей. «Сейчас, – сказала Марина снизу, из-под моих ног, – сей-час», – ухватилась крепче – за нижний край моей куртки, потом за рукав, – выпрямилась наконец, пошатываясь, нетвёрдо, и осталась стоять рядом со мной, упираясь в моё плечо. Просто так, сама по себе, без бутылки и без топора, с пустыми руками. А за ней уже поднималась Наташа, подходя с другой, Ириной стороны; «топором только не размахивай», – шепнула она неожиданно трезвым, недовольным голосом, а потом никто больше не двигался и не разговаривал, и глубокая напряженная тишина, нарушаемая только шипением смолы в огне, разлилась и накрыла и нас четверых, и мужскую широкую фигуру напротив.
Несколько долгих, тревожных мгновений он не делал ничего – только медленно, внимательно рассматривал наши глупые, пьяные, беспомощные лица, и уже потом, когда ожидание сделалось невыносимым, произнёс – с каким-то задумчивым, неторопливым удивлением:
– Интересные вы, девчонки. Я вообще-то ягод вам принёс. – Анчутка сбросил с плеча рюкзак, тяжело ухнувший нам под ноги, почти в самый костер, так, что одна из вытертых матерчатых лямок обиженно съежилась, как живая, словно стараясь держаться подальше от жгучих стелющихся огненных языков, и тут же принялась чернеть по кромке.
– Ягод? – тупо переспросила Наташа, – ка…ких ягод?
Вместо ответа он опустился на корточки – одним легким, неуловимым движением, отдернул рюкзак от кострища и распахнул его.
В плотных брезентовых недрах ярко, морозно сверкнуло красным; запустив внутрь обе свои широкие горсти, он приподнял и рассыпал, подставляя нашим взглядам, рубиновые заледеневшие шарики.
– Брусника? – выдохнула Марина прямо мне в ухо. – Брусни-и-и-ка, – повторила она нараспев, мечтательно, с восторгом и, оттолкнувшись от моего плеча, шагнула вперёд, неловко скользнув ногой по тлеющей, негодующе плюнувшей искрами головёшке. – Да где же вы, где же вы взяли столько? – говорила она, уже падая на колени возле мешка, уже ныряя внутрь ладонями и ртом одновременно, и осеклась только в самый последний момент, поднимая лицо: – Можно, да? Можно?
– Кислая! – сказала она с восторгом спустя секунду, с полным ртом. – Кислая, жуть! – и зажмурилась.
Рюкзак оказался набит тяжело, туго, под самые веревочные завязки, ягоды, видно, были собраны наспех, вперемешку со мхом, подмороженными листьями, ветками и хвоей, мы вычерпывали горстями и жевали, не разбирая, всё, что попадалось на ладони: ломкие, горькие, ледяные брусничины пополам с листьями и иголками, – жевали, сидя прямо на снегу, и не могли остановиться, потому что три месяца подряд мы ели только рыбу и ничего другого.
– Да погодите вы, – сказал Анчутка, – что ж вы ее прямо так, замороженную. Горло заболит. Хотя я смотрю, вам море сейчас по колено. – Он засмеялся коротко, необидно. – По поводу пьете или так?
Марина быстро выплюнула в ладонь жесткую лесную шелуху.
– Форель! – вскрикнула она удивлённо, словно только что вспомнила о том, что у этого долгого, наполненного разговорами вечера действительно был повод. – У нас же форель! Мы ее сами… я сейчас… – Она вскочила, покачнувшись, и поискала глазами вокруг.
Рыбу Анчутка запёк сам, отмахнувшись от нашей бестолковой помощи, «вы давайте лучше продышитесь, девчонки, сейчас мужики ваши вернутся, а мне оправдывайся, что не я вас поил», и мы послушно расселись вокруг, наблюдая, как он разгребает угли, как пристраивает с краю увесистый серебристый кулёк. Есть не хотелось.
Спирт, прозрачный ночной воздух, ровное густое тепло от огня убаюкивали, укачивали, и Анчутка вполголоса, монотонно рассказывал, как скользнувшая с тропы снегоходная лыжа разрезала нехоженый, белоснежный, толстый слой снега, «а там ее густо-густо, целая поляна, девчонки, и ведь недалеко совсем, тут рядом» (закрывая глаза, я увидела и этот снег, похожий на взбитые сливки, и широкий красный разрез, словно след от ножа в боку пышного торта), «странно, что ее не собрали, черт их знает, не нашли, что ли, обычно они тут по осени чешут ягоду как комбайны, у них скребки такие специальные, слышишь, раз махнул – и полкило сразу, хотя, может, некому было чесать уже, перемёрли, может, а то и разбежались». Перемёрли, повторила я про себя равнодушно, проваливаясь в уютную дремоту, перемёрли – и не было больше в этих словах ничего страшного, как не может быть страшной сказка, рассказанная на ночь. Угли шипели, лёгкий, едва уловимый аромат жареной форели робко, опасливо разворачивался у нас над головами, и вдруг тот же спокойный голос произнёс прямо у меня над ухом: «о-па, здорово, мужики», – и я вздрогнула и проснулась.