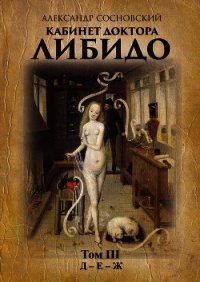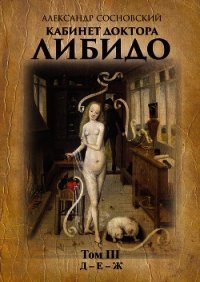Восковые фигуры - Сосновский Геннадий Георгиевич (читать книги онлайн полностью без сокращений .TXT) 📗
— Я готов, приказывайте! — страстно шептал во сне Пискунов и подхалимски ломался в пояснице. — На все готов! Вижу вон, пообсыпались вы, красочка пооблупилась… Могу подправить, подлакировать. Чтобы — в белый цвет, боюсь, таланта не хватит…
— Ах, что вы, что вы! — великодушно снисходил король и простирал сверху царственную длань. — Косметика, в общем-то, пустяки, но буду весьма признателен… если… У меня на вас особые виды, признаться.
— Говорите-говорите! — Пискунов кланялся и приседал в реверансах. — Все, что в моих силах… Тайный замысел? Смертельный риск?
— Именно! Тщеславен я, голубчик! Хочу, чтобы в своем романе… Меня, персонально… Впрочем, о деталях потом… Мы ведь теперь никогда… Навеки вместе! — И он заключил Пискунова в объятия, сдавил, не отпускал, остановилось дыханье…
Миша открыл глаза — сердце бешено колотилось. Еще клубились образы кошмарного сна, и сквозь их завесу реальность едва проступала, но одно ощущение было явным: в комнате кто-то есть. Он рванулся, чтобы спрятаться, спастись — Валентина его тормошила.
— Миша, Миша, да проснись же!
— Я что, я опять? — Он силился понять, кто его зовет.
— У тебя лицо… чужое! — Валентина стучала зубами. Вскочила, побежала за зеркалом, громыхая, покатилась кастрюля.
Пискунов смутно прорисовался во мраке зеркала. Ну и портрет! Вдруг сосредоточился на глазах: один был неподвижный, стеклянный, другой голубой, по-идиотски веселый… неловко выронил зеркало, оно упало плашмя и разбилось. Валентина заплакала, говоря, что это дурная примета, кто-нибудь умрет или заболеет. Чепуха какая-то! Пошатываясь, он пошел к умывальнику, долго держал голову под холодной водой. Когда вернулся, весь мокрый, Валя все еще всхлипывала по-детски, шмыгала носом. Так и не оделась, сидела голая, зябко опустив плечи и подергиваясь от рыданий. Миша обнял ее, косясь в темноту.
— Он там… — Его колотило так, словно промерз до самых печенок. — Там, на кухне… В углу стоит…
— Кто он? Кто? Да говори же! — Глаза расширились и блестели.
— Ничего-ничего, успокойся. Перебрал вчера. Пятьдесят рублей продул… — Голос его не слушался.
— Мишук, на что же мы будем жить? — спросила она вяло. Еще слишком рано было для житейских забот, над головой еще клубился сон.
Валентина подкатилась под бочок, устраиваясь поудобнее и пробираясь носом под мышку, как котенок от холода, — излюбленная поза. Затихла, успокоилась.
— Мишук, ты на мне правда женишься? — Старая-престарая тема. Залезла носиком в ухо, щекотала дыханьем. — Почему ты спишь всегда одетый, в трусах, тело не отдыхает! — Просунула руку и подергала за резинку. — Я могу без ничего, а ты не можешь без ничего.
Он чувствовал запах ее волос, свежий и чистый, все ее тоненькое озябшее тело, прилепившееся к нему, чтобы согреться, ощущал губами еще не высохшее от слез лицо и думал, впадая в состояние душевной хмельной размягченности, что, конечно же, никогда ее не бросит. Да и зачем?
Валентина вскоре заснула, а он встал, напился и лег, руки под голову. Сон оставил его, но было страшно открывать глаза. И все же открыл и увидел то, что и ожидал увидеть: белая рука легла поверх одеяла и светилась во мраке. Пискунов лежал неподвижно, раздавленно, с наплывающим ощущением близкой смерти. То проваливался в потемки, то снова выбирался на свет. На стене зашевелилась тень, и знакомый хрипловатый голос прозвучал откуда-то издалека, но в то же время казалось, он звенит внутри черепной коробки; Миша прислушался к нему, зорко продолжая наблюдать за рукой, как за живым существом.
— Теперь вы должны сделать выбор! Еще не поздно… Прочь малодушные сомнения! — Рука коснулась ладони и сжала ее. — И какие бы соблазны ни уводили в сторону, какие бы страхи ни напоминали об осторожности, не поддавайтесь, стойте насмерть! Отныне вам светит единственный маяк — ваша святая цель! Клянитесь же!
— Клянусь! — крикнул Пискунов, чувствуя величие этих торжественных слов и волнение души от важности принимаемого решения, хотя и непонятно какого. — Клянусь! И пусть меня судит моя совесть!
И опять голос прозвучал где-то очень далеко, хотя и в нем самом, — он не уловил даже шепота, только губы шевельнулись слегка, будто опаленные морозом.
— А теперь слушайте. Преступник, которого вы искали, есть и будет ждать вас. Это особо опасный преступник. Просьба о помиловании — пустая формальность, чтобы вы успели встретиться перед казнью. Придет отказ, и смертный приговор будет приведен в исполнение. Он умрет!
— Но кто же он? — прошептал Пискунов, весь содрогаясь. — В чем его преступление?
— Это не наш человек, он пришел из другого времени. И вообразил себя всемогущим, способным исправить несовершенство мира путем насильственного вторжения в человеческую природу, изменив извечные законы, обязательные для всего сущего. Насилие во имя благородной цели! Ах глупец! Никакой, даже великий ум не в силах объять мир во всей бесконечной совокупности причин и следствий. Жалкая, наивная самонадеянность! Ха-ха-ха! — Издевательский хохот гремел, точно под сводами пещеры, дробное эхо постепенно утихало, как грохот поезда, вошедшего в глубокий тоннель, и будто колеса в висках отстукивали: «Он умрет, он умрет, он умрет…»
Слова еще звенели в стеклянной пустоте, складывались в обманчиво гладкое подобие мыслей и ускользали, стоило вдуматься в них и удержать в памяти как реальный фщст сознания. Стало совсем светло. Прохладный ветер гулял по комнате, бесцеремонно трогал то занавеску, то скатерть. В окнах напротив холодным утренним пожаром полыхала заря.
Пискунов поднял себя резким движением, чтобы положить начало деятельному состоянию на весь день: так он поступал всегда, борясь с недомоганием и слабостью. Вдруг маленькая деталь привлекла его внимание: оттопыренный карман пиджака, словно сохранивший след проникшей туда руки. Посмеиваясь над собой, с суеверной осторожностью он ощупал карман и обнаружил внутри измятый листок бумаги, наспех вырванный из записной книжки. Незнакомым почерком был нацарапан номер телефона и два странных слова: «Спросить папашу». Он постоял, пытаясь понять, что это значит, вспомнить, но так и не вспомнил ничего.
Пискунов вышел на улицу. Солнце светилось за черными громадами домов — тени от них лежали густые, чернильно-плоские, без затей, как рисунок школьника; кое-где дворники подметали тротуары, и эти равномерно шаркающие звуки действовали успокоительно, возвращая почему-то к детству, к приятному воспоминанию о долгой, но не тяжелой болезни и о шаркающих шагах старого доктора, совершающего обход больных. Когда и где это было? Вокруг безлюдно, не по-жилому просторно. На дальней улице, разламывая пустую тишину взрывом металла, прогромыхал первый трамвай…
С приятным чувством Миша перешагнул порог редакции. Это чувство он испытывал всегда, идя рано утром по пустынным коридорам, поднимаясь по лестницам и входя в свой кабинет, тихий и пустой и как бы приглашающий скорее к работе. И первое, что он сделал, — набрал номер телефона, указанный в записке. Ожидал, волнуясь, до болезненного обмирания сердца, но трубка молчала, отзывалась лишь длинными гудками: было еще слишком рано, и он это знал.
Пискунов сел за машинку, сосредотачиваясь. Нужно было отбросить все внешнее, освободиться от сумятицы пережитых мыслей и чувств, вымести из головы весь этот сор, что постоянно накапливается, берет на себя внимание и раздражает, как сор в неубранной комнате. Именно эти утренние часы и были тем коротким временем, что доставляло радость, наполняло ощущением подлинной жизни, а не весь остальной, бесконечно длинный день с беготней по кабинетам, телефонными звонками, пустыми разговорами, анекдотами, совещаниями, перекурами на лестничной клетке, чтением корреспонденций и множеством других забот и дел, нужных и ненужных, выполнять которые входило в обязанности литсотрудника газеты.
Где-то гремели передвигаемые стулья, струя воды, вырываясь из крана, громко и сварливо разговаривала с пустым ведром — это священнодействовала уборщица тетя Паша, человек в редакции самый ценный, если судить по зарплате: работала на нескольких работах сразу, загребала сотни. В кабинет проникал стерильный запах свежевымытой туалетки, но не терзал обоняние, поток приятных ассоциаций уносил к южному морю, в санаторий общего типа, куда Мише посчастливилось попасть в прошлом году по причине горящей путевки. Ах, эти ночи, лунные блики и летящие в черную воду пустые бутылки. Там в день отъезда они познакомились с Валентиной, отдыхавшей дикарем. Выяснилось, что они из одного города, и эта смешная девчонка, восторженная дурочка, приклеилась намертво. Без конца названивала на работу, ждала на автобусных остановках, покупала вкусные торты, когда у самой на хлеб не было, поджидала около дома, если он забывал оставить под ковриком ключ, бегала в магазин и помогала вести хозяйство, состоявшее из кастрюли, сковородки и десятка тарелок, число которых катастрофически уменьшалось благодаря их обоюдным усилиям. Она просочилась в его жизнь незаметно, как просачивается вода сквозь по-весеннему рыхлый, подтаявший на солнце снег. Как многие люди с тонкой и нежной душой, Пискунов был привязчив и уже не мог обходиться без трогательной заботы и неистощимой энергии молодой женщины, устраивающей свою судьбу, не мог целиком отрешиться от радостей жизни, которые она ему щедро и от всей души дарила, и в роли затворника чувствовал себя не менее несчастным, чем в роли пылкого любовника, расточительно тратившего золотые крупицы быстротекущей жизни, обворовывая себя как творческую личность — так ему, во всяком случае, казалось.