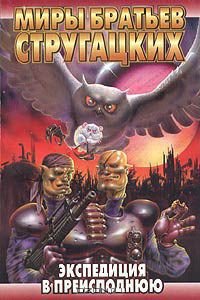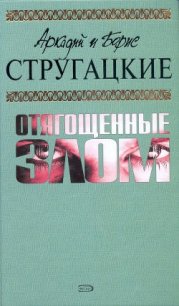Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев - Стругацкие Аркадий и Борис (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации txt) 📗
— Государства, знаете ли, не ищут прав. Право государства — это его сила.
— О да! Это — так. Спасибо за разъяснение... А знаете, почему вы все время писали в протокол: «антисоветская статья Мирлина»? Я кричал: «не надо!», кричал, что, мол, не считаю статью антисоветской, а вы все писали, писали, упорно писали... и все время тащили из протокола в протокол «посадят тебя, Семка!». Знаете зачем?
— Не знаю. Так было положено. Определенная форма, как я понимаю...
— Нет. Ничего вы не понимаете. Либо вы врете, либо они и вас обманули тоже. Это им было нужно, чтобы не доказывать антисоветскость Мирлина. Понимаете? Это МЫ, свидетели, доказывали, что Мирлин — антисоветчик, а суд сам и рта не раскрыл по этому поводу...
— Не понимаю.
— Я и сам-то понял буквально в последнюю минуту. Поздно понял. Но все-таки понял и отбивался как мог... Я говорил, что не считаю статью антисоветской, а прокурор с этаким отвращением на лице заявлял мне: «Да что вы, гражданин Красногоров, ребенок, что ли?.. Перестаньте, мол, стыдно вас слушать...» А судья — рылся в протоколах и объявлял с удовольствием: «Как же не считаете... Вот же ваши слова: «Антисоветская статья Мирлина мне не понравилась...» Ваша подпись стоит... Ваша подпись? Посмотрите!» Помните, я все требовал от вас, чтобы вы вычеркнули «антисоветская статья»?..
— Я вычеркивал!
— Да. Но, видно, не везде. Кое-где осталось...
— Честное слово, я сам тогда не знал...
Он только махнул рукой и заговорил о другом — снова о молодежи и о том, что победит тот, кто сумеет сделать ее своей — поднять до своего уровня или, может быть, опуститься до ее уровня, оставшись при этом самим собой... Он уже был на подходах к своей теории элиты. «Элита — это те, кто идет со мной. Все прочие — люмпены или круглые дураки».
Мы проговорили часа два, выпили всю водку, и он вдруг засобирался куда-то («...прошу прощения... совсем забыл...»), и мне пришлось уйти.
Мы виделись с ним еще пару раз в этот первый мой приезд, но все как-то наскоро, впопыхах — вполне доброжелательно, приветливо, но без всякой обстоятельности. Один раз, по-моему, он даже намеревался как будто пригласить меня с собой в свою компанию (ему нравились мои рассказы про Африку), но, видимо, раздумал, не пригласил...
Мне удалось сохранить и даже, пожалуй, укрепить наши дружеские отношения, мы стали ближе, чуть ли не на «ты», но я ничего нового не узнал о нем, и ничем новым он меня так и не порадовал.
Однажды я выбрал время, когда его точно не было дома, и пришел специально, чтобы потолковать с соседкой. Мы просидели добрых полтора часа у них в прихожей, на старинном сундуке, и она рассказывала мне всё о нем, что ей хотелось рассказать. (Я никогда не вербовал ее, хотя такая мысль и приходила пару раз мне в голову. Зачем? Вербовка, разумеется, имеет свои плюсы, но и свои минусы она тоже имеет. Я лично всегда предпочитал словоохотливого собеседника самому старательному информатору, работающему по найму.)
Да, он пил. Особенно года два назад. Не сразу после смерти жены, а спустя почти целый год, когда появились у него какие-то еще неприятности, суд какой-то, куда его таскали свидетелем, а может быть, и еще что-то: он вдруг стал пропадать ночами, возвращался с рассветом, осунувшийся, глаза — страшные, и сразу — в ванную, растоплял там колонку и подолгу сидел в горячей воде, тихо-тихо, а потом вдруг вздыхал — со стоном, на весь дом, она от этих стонов со страху, бывало, так и обомлеет. Вот тогда он и стал попивать. Сначала не сильно, по-человечески, как все. Веселел в эти минуты, сам с ней иногда даже заговаривал, шутил, приглашал тяпнуть рюмочку. Потом — все круче, до безобразия, до полного беспамятства, падал даже иногда, однажды в ванной упал — все лицо в кровь рассадил, а кончилось тем, что как-то утром вышел от себя, еле на ногах держась, да и повалился посреди кухни, как бревно, и так весь день и пролежал. Тяжелый, опухший, ей было его ни сдвинуть, ни повернуть, так через него весь день и шагала со своей хромой ногой. И — все. С тех пор как завязал. Выпивал, конечно, помалу — все пьют, — но уж никаких безобразий больше не было...
...Да, женщины у него бывали. Но всё — разные. И недолго. Придет раза три, много — четыре, и — пропадает. А через пару недель новая. Он из них никого не любил. А одну даже выгнал — со скандалом, с криками, чуть ли не взашей...
...Друзья — как же! — ходят. И Виктор Григорьевич, и Женечка часто бывает — кудрявый, красавец сказочный, ласковый всегда такой, приветливый, обязательно поздоровается, а иногда еще цветочек преподнесет... И жена у него славная, Танечка... А еврей его, этот, носатый, куда-то запропал, не знаю, уехал, наверное, в Изра`иль... А еще иногда ходит такой маленький, шибздик такой белесоватый, поганочка такая тонконогая, тоже очень вежливый и очень любит поговорить: как вы поживаете, да что у вас слышно, Тамара Мартьяновна... Не люблю его, он какой-то весь насквозь фальшивый, не верю я ему. Но он, слава богу, редко бывает — раз в кв`артал, никак не чаще...
Я не сразу понял, что это — Ведьмак. Но потом догадался. Маленький. Белесоватый. Поганочка. Он. (Непонятно только, как же это он обычного своего благоприятного впечатления на нашу Мартьяновну произвести не сумел? Странно даже. Казалось бы, что ему стоит такую вот женщину очаровать и приворожить? Да, видно, и на старуху бывает проруха...) Работал он теперь в другом отделе и даже в другом Управлении. Я стал искать его и нашел. Не без труда. Он сменил адрес, переехал в тот дом, где раньше проживал Дорогой Товарищ Шеф, получил там роскошную квартиру, потолки — три двадцать, не то что прежнее «место прописки», и вообще стал уже майором, даже, пожалуй, раздобрел слегка и сделался важным.
Встретил он меня настороженно — отвык, да и вообще со стороны, надо сказать, поведение мое, явная настырность и навязчивость выглядели, пожалуй, странновато. Сувенирчики несколько смягчили его, но настороженности не только не сняли, но, я бы сказал, даже усугубили. Состоялся неловкий, аритмичный какой-то и совсем пустой разговор. Он явно силился, но никак не мог понять, что это я к нему приперся, чего мне надо, чего липну, и вообще, в чем, собственно, дело... А я с натугой разыгрывал доброжелательность, искреннюю дружественность и радость общения. По-моему, он заподозрил во мне тайного гомика. Не знаю. Мы распили бутылку «мартеля», захорошели оба, но радости от разговора так и не получилось. Я рассказывал ему какие-то чудовищные мерзости про негров и ихних баб, он мне — про своего папаню, который находился в прежнем своем положении и полюбил теперь, чтобы ему читали Эмиля Верхарна... Я до сих пор с ужасом вспоминаю этот вечер. Детали не запомнились совсем, а только общее впечатление — тяжелой, стыдной и бессмысленной работы... И только когда я уже уходил, в прихожей уже, помогая мне отыскать завалившийся куда-то под вешалку берет, он спросил меня как бы между делом:
— К своему-то заходил?
— Нет, — сказал я. — К кому?
— Да к этому... к однофамильцу твоему, к Красногорову...
— Нет. А что, надо зайти?
— Не ходи. Ну его к чертям. Он... Знаешь, кто он? Монстр.
— Кто?
— Монстр.
— Ошибаешься! — сказал я с пьяной назидательностью. — Он — ясновидящий. Категория «С».
— Откуда ты это взял?
— Дорогой Товарищ Шеф сказал. А что — нет?
— Нет. Монстр.
— Тогда надо бы зайти. Это — по моей специальности.
— Не ходи. Я не хожу больше, и ты тоже не ходи. Я его теперь боюсь... — Он оборвал себя, словно опасаясь сболтнуть лишнее.
— Надо сходить! — объявил я упрямо, словно бы не слыша его. Я надеялся, что он скажет хоть что-нибудь еще. Объяснится. Поделится. Насчет «боюсь» вырвалось у него явно непроизвольно — ему захотелось чем-то поделиться со мной, с единственным, может быть, человеком, который способен был его понять... поверить ему... Помочь, может быть? Но он больше ничего не сказал, а я не рискнул спросить впрямую. Мы обнялись на прощание. С отвращением — полагаю, взаимным...»