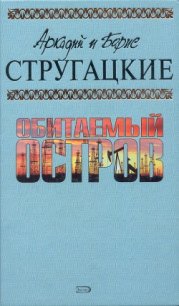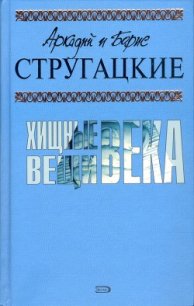Том 8. 1979-1984 - Стругацкие Аркадий и Борис (книги серии онлайн .TXT) 📗
Турист Каммерер, бывший Прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отметено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего Прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.
Бывший Прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельством, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.
— Где жил этот неврастеник? — прямо спросил он и тут же пояснил: — Это я — чтобы туда зря не ходить.
Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.
— Превосходно, — объявил турист Каммерер. — Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда... Мне нравится, что там как будто рябина погуще...
Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший Прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.
— Разумеется, — сухо сказал он. — Я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать...
— Как? А вы?
— Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке...
Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.
— Пр-р-роклятые годы, — сочувственно произнес он, и дело было сделано.
Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастеника.
2 июня 78-го года В ИЗБЕ НОМЕР ШЕСТЬ
Мне было ясно, что, скорее всего, «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем неясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно: либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?
И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого Прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые... Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело направить в Прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело — определить Прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы — и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями... Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.
Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.
Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три — даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками.
Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно Линии Доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запускается киберуборщик...
Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена — цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но, поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.
Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.
Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.
Все еще на корточках, я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилом человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекий мальчишка лет двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.
Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.
И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, — рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, — почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных — не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.
Все это было непонятно и уж, во всяком случае, никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и в общем-то веселом лице. Был там еще и шарж на Учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил наконец, что за строения изображены на рисунках — четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов... И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.