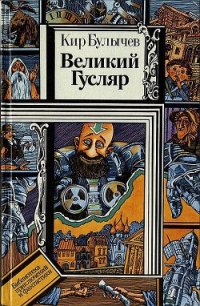Великий Гусляр - Булычев Кир (книга жизни TXT) 📗
Они еще немного погуляли. Потом тиран доверительно сообщил гостю:
— Дорого нам обходится правительство…
И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул:
— Правительство арестовать! Зону расширить на соответствующий блок. А моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседу.
Генерал вывел Удалова в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров.
Затем отвез Удалова обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы: «Барак № 21». А внизу поменьше, золотом и с финтифлюшками: «Отель „Каторга“».
Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли дверь «одиночки № 45». Карцер был уютный, с двуспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда.
— Тиран-справедливый требует к себе заключенного номер 6789421! — гаркнул он. — Переодевайтесь.
Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный, придется напомнить.
Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения.
— Здравствуй, — сказала она. — Наша фирменная одежда тебе к лицу. А я достала керосину. Тридцать гекалитров. До Альдебарана должно хватить.
Она была славной девушкой. И бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни.
Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию.
— Как вчера прошли аресты? — спросил Удалов. — Удачно?
— Как положено, — сухо ответил генерал.
Они вышли на знакомый газон.
Середина его была обнесена решеткой. Внутри ее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и загорали заключенные няни.
Удалов остановился у входа в клетку.
— Заходи, — узнал его тиран. — Почувствуй себя свободным человеком. Ты уж прости, но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны — серьезное преступление.
— Что же получается? — спросил Удалов. — Вы теперь один на свободе остались?
— Да! — твердо ответил тиран.
— Тогда я пошел, — сказал Удалов.
Тиран сильно гневался вслед, но покинуть свободную клетку не решился.
Лагерную одежду с номером 6789421 Удалов оставил себе на память.
Титаническое поражение
Удалов вошел в кабинет к Николаю Белосельскому. Вернее, ворвался, потому что был вне себя.
— Коля! — воскликнул он с порога. — Я больше не могу.
Предгор Белосельский отложил карандаш, которым делал пометки на бумагах, пришедших с утренней почтой, ласково улыбнулся и спросил:
— Что случилось, Корнелий?
Когда-то предгор учился с Удаловым в одном классе, и их дружеские отношения, сохранившиеся в зрелые годы, не мешали взаимному уважению и не нарушали их принципиальности.
— Я получил сегодня утром восемь новых форм отчетности, четыре срочные анкеты по шестьсот пунктов в каждой, не считая сорока трех прочих документов и инструкций.
С этими словами Удалов поставил на стол предгора объемистый портфель, щелкнул замками, наклонил, и гора бумаг вывалилась на стол.
— Ну чем я могу тебе помочь, — вздохнул Белосельский, который сразу все понял. — Я сам завален бумагами — работать некогда.
— Так мы перестраиваемся или не перестраиваемся? — спросил Удалов. — Неужели ты не понимаешь, Коля, что бюрократы нас скоро погребут под бумагами? Бумаги нужны им для того, чтобы оправдать свое бессмысленное существование. А мы терпим.
— Мы боремся, — сообщил Белосельский. — Три дня назад мы уговорили Горагропром сократить на шесть процентов квартальную отчетность. После долгого боя они согласились.
— Ну и что?
— А то, что оставшиеся девяносто четыре процента они увеличили втрое в объеме.
— Надо разогнать.
— Мы не можем разогнать, — сказал Белосельский. — Все наши организации подчиняются вышестоящим организациям, а все вышестоящие организации подчиняются очень высоко стоящим организациям, и так до министерств…
— Тогда подаю заявление о пенсии, — заявил Удалов. — Я уже три дня не был на стройплощадке. У меня рука сохнет.
— Так не пойдет, — сказал Белосельский. — Своим капитулянтским шагом ты лишаешь меня союзников. Мы должны думать, а не плакать.
— Тогда думай! — закричал Удалов. — Тебя же для этого сделали городским начальником.
— Если бы я знал! — с тоской произнес Белосельский и, подойдя к окну, вжался горячим лбом в стекло. Ему хотелось плакать.
— Простите, друзья, — раздался голос от двери. Там стоял незаметно вошедший в кабинет профессор Лев Христофорович Минц.
— Заходите, Лев Христофорович, — откликнулся Белосельский. — Беда у нас общая, хоть от вас и далекая.
— Я все слышал, — сказал Минц. — Но не понимаю, почему такая безысходность?
— Бюрократия непобедима, — ответил Белосельский.
— Вы не правы. К этой проблеме надо подойти научно, чего вы не сделали.
— Но как?
— Отыскать причинно-следственные связи, — пояснил профессор. — К примеру, если я собираюсь морить тараканов, я первым делом выявляю круг их интересов, повадки, намерения. И после этого бью их по самому больному месту.
— Так то ж тараканы! — воскликнул Удалов.
— А тараканы, должен вам сказать, Корнелий Иванович, не менее живучи, чем бюрократы.
— Что же вы предлагаете? — спросил Белосельский.
— Я предлагаю задуматься. В чем сила бюрократа?.. Ну? Ну?
Друзья задумались.
— В связях, — произнес наконец Белосельский.
— В нежелании заниматься дедом, — сказал Удалов.
— Все это правильно, но не это главное. Объективная сила бюрократии заключается в том, что она владеет бумагой. А бумага, в свою очередь, имеет в нашем обществе магическую силу. Особенно если она снабжена подписью и печатью. При взгляде на такую бумагу самые смелые люди теряют присутствие духа, цветы засыхают, заводы останавливаются, поезда сталкиваются с самолетами, писатели вместо хороших книг пишут нужные книги, художники изображают на холстах сцены коллективного восторга, миллионы людей покорно снимаются с насиженных мест и отправляются в теплушках, куда велит бумага…
— Понял, — перебил профессора Удалов. — Нужно запретить учить будущих бюрократов читать и писать. Оставим их неграмотными!
— Они уже грамотные, — сказал Белосельский.
А Минц добавил:
— К тому же бюрократами не рождаются, ими становятся. И опять же по велению бумаги. Потому я предлагаю лишить нашу бюрократию бумаги!
— Как так лишить? — удивился Белосельский.
— Физически. Не давать им больше бумаги. А не будет бумаги, им не на чем будет писать инструкции и запреты, а вам не на чем будет составлять для них отчетность.
— Но как?
— Вы не можете закрыть все учреждения, вы не можете выгнать бюрократов на улицу. Но в вашей власти отказать им в бумаге. Вся власть Советам!
Слова мудрого Льва Христофоровича запали Белосельскому в душу. Не сразу, а собрав вокруг себя сторонников, обдумав процедуру, он издал указ, радостно встреченный всем населением.
«Отныне и навсегда ни одно учреждение города Великий Гусляр не имеет права держать в своих стенах никакой бумаги, кроме туалетной и предназначенной для написания заявления об уходе (по листку на каждого чиновника)».
Мы не будем описывать здесь, как сложно было перекрыть доступ бумаги в учреждения и конторы, как хитрили и изворачивались руководители этих контор, как пришлось ставить добровольцев на городских заставах, чтобы пресечь контрабанду бумаги из области и даже из Москвы. Но если народ решил, то народ справится!