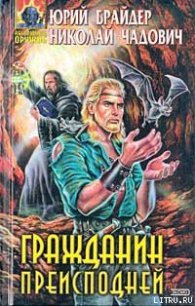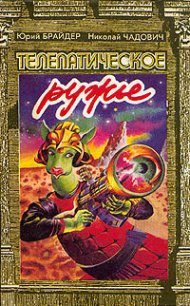Между плахой и секирой - Чадович Николай Трофимович (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
– Четверг, – следователь заглядывал в календарь.
– Значит, шестого августа прошлого года в четверг?
– Да, – следователь уже нервно постукивал авторучкой по столу.
– А какое время вас интересует?
– Допустим, вторая половина дня.
– Шестого августа прошлого года в четверг во второй половине дня я ничего не делал, – сообщал Песик таким тоном, словно страшную тайну открывал.
– Как, вообще ничего не делали? – удивлялся следователь.
– Ничего в том смысле, что я про этот день ничего не могу вспомнить. Вот вы мне сами, пожалуйста, ответьте, что вы делали шестого августа прошлого года в четверг во второй половине дня.
– Здесь вопросы задаю я! – и без того недобрый прищур следователя становился вообще злой щелочкой. – Отвечайте на поставленный вопрос.
– Сейчас постараюсь… – Песик задумчиво глядел в потолок, пожелтевший от табачного дыма. – Вам, гражданин следователь, легче, у вас получка есть… от нее можно отсчет вести… У вас в жизни всякие интересные случаи бывают, которые в памяти держатся… А я что… Живу, как Божий одуванчик, из дома почти не выхожу, одно только радио и слушаю. Вот и все развлечения… А чем вообще этот день примечателен, напомните, пожалуйста?
– В этот день американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, – следователь опять заглянул в календарь.
– Точно! – радостно восклицал Песик. – Вспомнил! Все вспомнил! Утром как раз про это и сказали по радио. Что, дескать, сегодня печальная дата. Исполняется, уже и не помню сколько лет, со дня преступления американского империализма. Этот акт беспримерного варварства не был оправдан военной необходимостью и не мог повлиять на исход войны, быстрое окончание которой явилось результатом героических действий советской армии на Дальнем Востоке. Ну как? Хорошая у меня память?
– Хорошая, – терпеливо кивал следователь. – Ну ладно, по радио сообщили про Хиросиму. А дальше что?
– А дальше, если не запамятовал, началась передача «Вести с полей». Так себе передача. Я ее не очень люблю. Рассказывают про урожаи, про передовой опыт, про всяких там знатных комбайнеров…
– Я вас не о программе передач спрашиваю. Я спрашиваю о том, что вы сами в этот день делали. Куда ходили? С кем встречались?
– Куда я ходил? Шестого июля прошлого года в четверг во второй половине дня в печальную годовщину преступления американской военщины я мог пойти только в одно место. В ближайшую пивную, и там нажраться с горя. А когда я нажираюсь, то вообще уже ничего не помню. Ни где я был, ни что я делал, ни с кем встречался. Вы про такие дни меня не спрашивайте, гражданин следователь. Ни про Первое мая, ни про Пасху, ни про годовщину Парижской коммуны. Я такие дни напрочь не помню. Как будто бы их и не было. Вы меня про нормальный день спросите. Ну спросите! Спросите, например, что я делал первого февраля этого года. И я всегда отвечу. Первого февраля этого года я встал рано спозаранку и пошел в сарай рубить дрова, потому что мороз на улице стоял градусов под двадцать…
– Молчать! – Лицо следователя приобретало кирпичный цвет. – Отвечать только на мои вопросы. Отвечать кратко и конкретно. Понятно?
– Понятно… А я разве не так отвечаю? Как я могу помнить, что было шестого августа прошлого года во второй половине дня в годовщину варварской бомбардировки Хиросимы, если…
Бац! Челюсть Песика чуть не слетает с салазок. Кулак следователя в крови. Подследственный мешком валится с табурета и имитирует состояние глубокого нокаута. Допрос на время прерывается. Пару часов выиграно, но сколько их еще ожидает впереди…
Убедившись, что просто так Песика не расколешь, следователи предъявили ему обнаруженные при обыске вещи: пустые портмоне и кошельки, которые он по собственной дурости своевременно не выбросил; серебряный портсигар, очень уж приглянувшийся ему самому; и несколько золотых побрякушек, не нашедших пока сбыта.
Песик заявил, что это наглая провокация, что ни одной из предъявленных вещей он раньше и в глаза не видел, а появиться в его доме они могли только с помощью нехороших граждан милиционеров. И вообще, что это за обыск, при котором отсутствует хозяин? Где акт, где санкция прокурора, где подписи понятых?
Тут Песик, не ведая того, попал в самую точку. Обыск проводился в тайне от городских правоохранительных органов и законным путем оформлен не был. Надежда следователей была лишь на то, что у Песика, потрясенного видом обнаруженных улик, развяжется язык. Да не на того они нарвались.
Посредством титанических усилий были найдены владельцы некоторых похищенных вещей, но ни один из них не сумел опознать Песика. Да и не удивительно, ведь налеты он чаще всего совершал в темноте, а жертву вырубал первым же ударом.
Ничего не удалось выяснить и о судьбе Вальки Холеры. Песик и не собирался отрицать, что знает такую. Да, трахал ее. А разве это дело подсудное? Ее, между прочим, полгорода трахало, в том числе и некоторые милицейские чины. Куда она могла подеваться? Чего не знаю, того не знаю. Валька птица перелетная. Сегодня здесь, а завтра там. Вот потеплеет, может, и вернется. Хотя что ей в этом занюханном Талашевске ловить?
На пользу Песику работало и то обстоятельство, что его следователи были людьми столичными, деликатными и вышколенными, а кроме того, хорошо осведомленными о судьбе предшественников, в свое время наломавших дров со Щуплым. Дело находилось на контроле министра и генпрокурора. А это означало, что любая бумажка в нем должна была отвечать обязательному условию: комар носа не подточит.
Поэтому били Песика не очень часто и даже не с целью вызвать на откровенность, а главным образом для собственной разрядки. Пытки жаждой и лишением сна к нему вообще не применялись. А когда Песика однажды сунули для острастки в камеру к двум забубенным педерастам, он так отделал обоих, что надолго избавил от пристрастия к молодым ребятам.
Короче, дело буксовало. Срок расследования раз за разом продлевался, но так не могло продолжаться до бесконечности.
Раскололи Песика элементарно, что еще раз подтвердило справедливость похабненькой пословицы о хитрой заднице, на которую всегда найдется хрен с винтом.
Следователи внезапно как будто бы утратили интерес к Песику, стали реже выдергивать на допросы, а потом даже перевели в общую камеру. В принципе он был уже готов к такому повороту событий. Не взяв его ни мытьем, ни катаньем, хитрые милицейские псиры сделали ставку на подсадного стукача (таких иуд блатной народ называл «наседками»). Памятуя об этом, Песик ни с кем особо не откровенничал, а про себя сообщал кратко: сижу по оговору, безвинный, как голубь.
Население камеры менялось: одни приходили, другие уходили (кто на волю, кто на этап), а иные и задерживались на неопределенный срок. И как это всегда бывает в мужском коллективе, объединенном одной общей заботой, между людьми возникали симпатии и антипатии.
Совершенно неожиданно для себя Песик близко сошелся с уже немолодым уркой по кличке Бурят. Правда, так его смели называть только за глаза. Мелкая шушера, составлявшая основное население камеры, обращалась к ветерану уважительно: «Фома Фомич». Занимал он лучшее место у окна, и без его ведома нельзя было ни чинарик закурить, ни таракана прихлопнуть.
Увидев Песика впервые и убедившись, что тот знаком с чисто зэковским ритуалом «прописки», Бурят сдержанно осведомился:
– Кто такой? Где чалился? Какую статью вешают?
Песик, прекрасно зная, что и в тюрьме, и в зоне, и в следственном изоляторе вести распространяются быстрее, чем пожар в лесу, честно ответил на все вопросы, добавив, впрочем, сказку о своей полной невиновности. На Бурята эта сказка никакого впечатления не произвела.
– Пистонщик, значит, – он окинул Песика оценивающим взглядом. – Да еще и хомутник. Таких, как ты, деловые не уважают. Ну да ладно, живи пока. О твоих подвигах в пидерной камере мы наслышаны. Молодец, что не дал себя опетушить. Может, и получится из тебя брус шпановый.