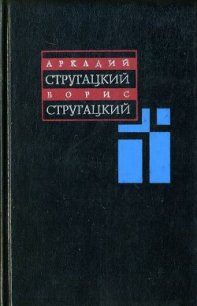Октябрьская страна (The October Country), 1955 - Брэдбери Рэй Дуглас (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
– Ну ладно, довольно я вас томил, – сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью. – Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?
– Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? – сказал я. – У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.
– Мир праху его. – На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.
– Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.
– Меньше, чем вы, – поспешно вставил я.
– Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его – вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим нам завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девчушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис оставался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед:
"Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь".
А кондуктор объяснял:
"Путь-то один, да поезда разные!"
И я кричал:
"Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!"
И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: "Джон, старина!", "Дадли, дружище!" – и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.
Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.
– Я не зря все это рассказываю, – сказал он. – Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.
– Он замышлял вас убить?
– Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.
Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.
– Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в коптильне – семнадцать окороков, в винном погребе – пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, у окна напротив – Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша – чудесная карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами – все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.
– Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, – вставила миссис Стоун.
– И вдруг Джон Оутис говорит: "Сейчас я убью вас, мистер Стоун" – и я понял, что он не шутит.
– Что же вы сделали?
– Сделал? Я был оглушен, раздавлен Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твое прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твое превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: "Да что ты, Джон, что я тебе сделал?"
"Что ты мне сделал?" – заорал он.
И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на них книг – на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. "Что сделал?" – ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.
"Осторожней, Джон, – сказал я. – Что тебе надо?"
"Только одно, – сказал он. – Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна".
"Ты не сделаешь этого!"
"Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги и как ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать как ты мне не под силу, так я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!"
"Это преувеличение".
"А я думаю, это чистая правда", – сказал он.
Я перевел взгляд на Лену – она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты.
"Спокойно, – сказал я. – Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок".
"Нет", – прошептала Лена.
"Спокойствие", – сказал я ей, себе, Джону Оутису.
Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене тоже и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею насладился! Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Сколько еще предстояло сделать!
В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов – корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена – богиня всего этого изобилия. Посредине – опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше – мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кой какой мелочи. Шестьдесят секунд истекали. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о как нежно коснулся, как нежно…
Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случалось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим угольным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.
"Джон, – сказал я наконец, – неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?"
"Да, черт возьми!" – крикнул он.
Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки – и все переменится.
"Джон, – сказал я спокойно, – если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь. Чтобы я больше не написал ни строчки?"
"Еще как хочу!" – крикнул он. – Приготовься!"