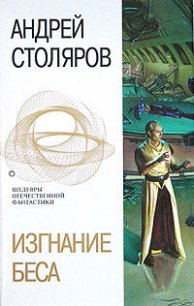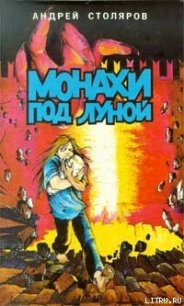Цвет небесный - Столяров Андрей Михайлович (книга бесплатный формат txt) 📗
— что сказать. Он покупает у вас, потому что вам сказать нечего. Ну как бы у ребенка отбирают счетную машинку: ребенок сломает и бросит, а взрослому пригодится. Ведь все равно пропадет. Что ты сделал за три года, как мы расстались? Две картины? Вы растрясете, размельчите, разболтаете. Боже мой, сколько вы болтаете! Что-то ненормальное. Лавины, водопады болтовни! Не его вина, если потом вешаются или уезжают. Его не касается. Он изгоняет посредственность. Всех тех, кто умеет только болтать. Потому что жить невозможно — сколько посредственности. Стоит у горла, как мыльная пена. Кричит — требует признания, места и своей доли восторга. Он не может уничтожить Букетова. Ему не по зубам. Но он хочет, чтобы не выросли еще десятки таких же. Он жесток. А кто не жесток? Это справедливая жестокость. Делай или уходи. Другого нет. — Она сказала умоляюще: — Отдай ему небо. Я тебя прошу. Он же с ума сойдет. Он уже сумасшедший. Все художники сумасшедшие. Ты, например. Но ты какой-то очень скучный сумасшедший. А у него есть та самая искра безумия, которая превращает простое рисование в искусство. Я прошу тебя. Он второй месяц не спит. Он портит по десятку холстов в день. Он учится писать такое же небо. У него астения. Он уже ничего не видит. За это время он мог бы написать четыре картины. Я прошу. Пока не поздно. Потому что он научится — через месяц, через год, через пять лет, но он научится, и вот тогда ты уже не сможешь сказать: «Это сделал я», — потому что ничего твоего там уже не будет.
Продавщица лениво вышла из-за прилавка. Перевернула на дверях табличку. Выразительно посмотрела на них, скрестив руки.
Кафе опустело. Они были одни.
— Я не знаю, как он это делает, — сказала она. — Он, по-моему, и сам не понимает до конца. Какие-то прежние навыки. Он редко прибегает к этому. Но я тебе обещаю. Он сохранит то, что у тебя было. Лучшую часть тебя.
— Обед, — протяжно сказала продавщица.
Она испуганно оглянулась — забывшись. Климов перехватил ее ладонь.
— Поедем ко мне.
— Что?
— Поедем ко мне. Только один раз. И больше никогда.
Брови ее удивленно поползли вверх. Она вырвала руку. Встала, начала застегивать пальто. Пуговицы не пролезали.
— Тебе нужно мое небо? — противным голосом сказал Климов.
Ему мешала внимательная продавщица.
— Не говори глупостей, — быстро и холодно сказала она. — Я — замужем.
Дребезжала железная крышка над дверью. Она была не закреплена. Подходя к тротуару, автобус сильно кренился набок. Казалось, опрокинется. Шаркал шинами о бровку, надсадно бурчал. Климова втиснули в самый угол. Руками он мог пошевелить, а телом — нет. Как жук на булавке. Чья-то зимняя шапка лезла в лицо затхло пахнущим мехом. Приходилось отворачиваться, напрягая шею. В заднем окне, вибрируя, отъезжали морозные дома — верхние этажи, тронутые рыжим утренним солнцем: улица была узкая. Разрезанное проводами, сияло промытое небо. Окна под крышами ослепли от его неистовой осенней голубизны. Растопыренная ладонь просунулась между головами и уперлась в стекло. Прямо в синеву. Неестественно изогнувшись, побелела у основания. Как ручьи в половодье, вздулись темные, малиновые вены. Климова передернуло. Неужели у него когда-нибудь будет такая же безобразная ладонь? И кто-нибудь вздрогнет, заметив ее разбухшие, ветвистые вены? Надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, я умру раньше. Я просто не смогу жить с такими руками. Толстые, уверенные пальцы, готовые содрать небесную синь, как полиэтиленовую пленку, и прямоугольные ногти, которыми можно резать металл.
Он закрыл глаза, чтобы не видеть. Автобус трясло. Вокруг происходило душное вращение тел. Кто-то продирался к выходу, работая локтями, кто-то возмущался ночным еще, несвежим голосом.
Нагретый воздух уплотнялся и мелкой влагой оседал на стенки.
У Сфорца не было копий своих работ. Он не делал копий. Его мастерская вообще не походила на мастерскую. Обычная комната — круглый стол, стулья. Только вместо одной стены окно — от пола до потолка. И висит гобелен — «Смерть и всадник». Струит истонченную временем благородную блеклость. Климову немедленно захотелось написать так же. Чтобы краски на полотне были как бы тенями друг друга. Он увидел себя в зеркале — бледный и угрюмый человек напряженно озирается, сгорбившись и засунув кулаки в обвислые карманы пальто. Сонные волосы у него встрепаны, а лицо одновременно презрительное и завистливое. Жалкое лицо. Блестят голодные глаза. Вышел Сфорца в атласном халате с широкими отворотами. Климов с ненавистью уставился на красный, блестящий шелк, буркнул вместо приветствия: «Я — посмотреть». Сфорца кивнул так же неприязненно: «Пожалуйста», — отдернул штору. Было две картины на голой стене. Всего две. В знаменитых черных рамах. Дух захватывало от этих картин, пустело в груди, ныли сжатые руки и страшно было подумать, что это сделал — он. Избегая смотреть, Сфорца зажег трубку, затянулся, как палец поднял янтарный мундштук в тягучих колечках дыма. «Вот». На обоих полотнах не было неба. Совсем не было. Сфорца даже не пытался его писать, оставил грунт — белый и раскаленный.
— Выходите? — спросили в ухо — далеко, из другого мира.
— Нет, — сказал Климов, не открывая глаз.
Мимо грузно протиснулись. Он почувствовал пружинящие ребра. Посоветовали: «Спать надо дома».
— У себя на огороде командуй, — грубо ответил Климов.
Зашумели, заговорили — всем автобусом. Климов молчал. Он был неправ. Он видел сейчас две черные рамы и белый грунт. Да, он может. Он допишет небо, и это будут прекрасные полотна. В сущности, какая разница, чье имя поставят внизу, на медной табличке. Это ведь никого не интересует. Важен результат. Если бы мне сказали: ты будешь писать необычайные вещи, миллионы людей найдут в них себя и сохранят это найденное всю свою жизнь, но никто никогда не узнает, что писал их ты? Что бы ты сделал? Если твое имя никому не будет известно? «Что бы вы сделали?» — сухо спросил Сфорца. «Не знаю», — невнятно сказал Климов. Сфорца впервые посмотрел на него — внимательно; складка легла меж орлиных бровей: «А я бы сказал — да». Отвернулся к окну, окутался клубами синего дыма.
После автобуса воздух на улице был очень чист — как родниковая вода — и очень холоден. Жухлая, затоптанная трава на газонах была обметана инеем. Рыхлое солнце не могло растопить его. Климов остановился с размаху — куда, собственно? Домой — невозможно. У него была длинная и узкая комната с одним окном. Окно выходило в стену соседнего дома. Всегда был полумрак. И всегда желтой грушей светила лампочка на голом проводе. Крашеный пол, полинявшие, в пятнах, обои. В такой комнате можно было умирать — в тоске и безнадежности. Жить там было нельзя. Он сунул мерзнущую руку в карман и выдернул, наткнувшись на бумажную пачку. Как он мог забыть? А ведь забыл. И еще что-то забыл. Очень важное. Что-то — совсем недавно. Там, в автобусе. Конечно — руки на стекле. Климов повернулся и, торопясь, пересек улицу — почти бежал. Оттопыренный карман жег, словно туда насыпали углей. Дыхание вырывалось паром.
Мастерская находилась под самой крышей. Большая и гулкая. К счастью, там никого не было. Удивительно повезло. Остро пахло красками и скипидаром. На давно неметенном сером полу лежали бледные квадраты солнца. Посередине, где освещение было лучше, сгруппировались четыре мольберта.
Валялись какие-то ботинки, тряпки, окурки, разодранные джинсы, которыми вытирали краску…
Это, конечно, не у Сфорца, но для нас сойдет. Климов стягивал пальто. Только бы никто не пришел. Придут и помешают. Оборвалась пуговица. Пальто упало на пол. Нетерпеливой рукой он взял кисть. Кончик ее дрожал. Разбегаясь глазами, поискал нужный цвет, макнул — положил на холст. Пятно возникло грубо и бесформенно. Комком — как загустевшая кровь, как глубоководная каракатица. Секунду он смотрел остановившимися зрачками. Бросил кисть в полотно.
Кровавый отпечаток потек по холсту. Кисть покатилась, оставляя за собой малиновые капли.