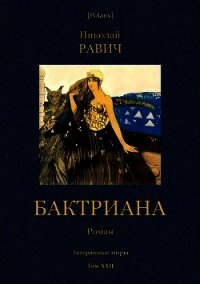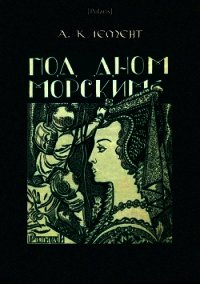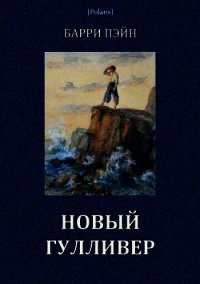Агуглу (Тайна африканского леса)(Затерянные миры, т. XXVII) - Мариваль Ремон (читать книги без TXT) 📗
Вначале Азуб приходил в ужас. При виде змеи он прыгал по комнате или взбирался на столбы веранды. Понемногу, однако, он успокоился и начал поближе рассматривать своего врага. Когда последний страх исчез, он осмелился даже подойти к нему и потрогать его концами пальцев, пока змея пила молоко. Боа доверчиво устремлял на него свои глаза и высовывал язык, на котором дрожали капли молока. «Агау», — бормотал Азуб, осторожно проводя рукой по его чешуе.
Да, как ни странно, но Азуб говорил. Был ли у него какой-нибудь язык, когда карлики привели его ко мне? Я склонен думать, что да, так как при разных обстоятельствах, желая выразить голод, гнев или просьбу, он прибегал к различным звукам. Но подобное явление замечено уже у различных животных высшего порядка, особенно у человекообразных обезьян, хотя язык Азуба и был богаче языка гориллы. Сам по себе факт не являлся исключительным, но возбуждала удивление та легкость, с какой он усвоил слова, наиболее часто употреблявшиеся в его присутствии. Через несколько недель он создал себе язык, конечно, далеко не совершенный, но достаточно ясный для того, чтобы заставить понять себя. Гласные в нем преобладали, так как ему было очень трудно произносить согласные; особенно ему не давались буквы «р» и «д». Его оборот речи очень страдал от этого недостатка. Азуб походил на запоздавших в своем развитии детей, гортань которых не повинуется им. Сможет ли он победить это затруднение? Его понятливость давала право надеяться на это. Но неожиданная катастрофа уничтожила эту надежду в несколько часов.
В роковой день мы вышли на рассвете, так как погода обещала быть хорошей. В полдень неожиданная буря прервала нашу прогулку. Мы находились в это время на плоскогорье высотой не менее 3000 метров. На таких высотах воздух всегда холоден, и дождь показался мне прямо ледяным. Спрятавшись под кустом мимозы, единственного растения, способного существовать на такой высоте, мы оба, дрожа от холода, ожидали конца ливня. Но небо темнело все больше и больше. Холодные туманы ползли по земле; и наконец море тумана поглотило нас. Надо было бежать как можно скорей из этой нездоровой полосы. Я подал знак и мы под ливнем двинулись обратно. Я шел быстро, одежда прилипала к моему телу. Азуб шел рядом со мной, покачиваясь вправо и влево под порывами ветра. Мы вернулись незадолго до наступления ночи. Я торопливо переоделся и пошел к Азубу. Когда я вошел, он сидел, положив руки на стол. Вокруг его глаз я заметил темные круги, которые меня очень обеспокоили. Я налил ему кофе, который успел простыть, прежде чем он его выпил. А между тем, кофе был его любимым напитком: он пил его, выпятив ковшиком нижнюю губу и наливая туда по несколько капель, которые глотал маленькими глотками, чтобы продлить удовольствие. Но в этот вечер он едва прикоснулся к кофе губами. Когда он поставил чашку на стол, пальцы его слегка дрожали. Чашка едва не упала. Он протянул руку, чтобы поддержать ее. Это слабое усилие, казалось, истощило его силы: рука его устало повисла. Он тяжело дышал. По телу пробегала сильная дрожь. Я поднялся и взял его на руки. Обвив мою шею руками, он позволил унести себя, как ребенка.
Несколько облаток хинина немного успокоили внезапную лихорадку. Уснул он довольно спокойно, но на следующий день приступ повторился, и, несмотря на все мои усилия, я не мог с ним справиться. Лежа на спине, покрытый одеялами до самого носа, Азуб долго боролся с мучившей его болезнью. Утром силы возвращались к нему. Он поднимался даже на некоторое время, старательно оправлял свою постель, встряхивая соломенную подстилку и укладывая поудобнее подушку. Вечером он снова впадал в оцепенение.
Чем быстрее приближался конец, тем больше он выказывал мне свою нежность. Когда я склонялся над его кроватью, он искал моей руки и сжимал в своей или тихонько ласкал ее пальцами. Его жалкий вид трогал меня до слез. На восьмой день он умер, прожив у меня шесть месяцев, умер в тот момент, когда закатилось солнце.
Теперь Азуб покоится в глубине сада. На его могиле я посадил гибиск. Недолговечны цветы этого кустарника: молочно-белые утром, бледно-розовые в полдень, ярко-гранатовые вечером, они осыпаются с наступлением ночи и один за другим роняют свои пурпурно-фиолетовые лепестки. Азуб так же рано расцвел, как эти цветы, и так же быстро отцвел, как они. Каждый вечер я подхожу к его могиле и, закрыв глаза, вдыхаю аромат этих цветов — смесь бензоя с миндалем. И мне кажется, что, растворенное в этих благоуханиях, вокруг меня реет живое воспоминание об Азубе!
III
ПИГМЕИ
Приближался сентябрь, но Абу-Гурун не показывался.
— Что я тебе говорил? — восклицал Сироко, многозначительно подымая палец.
Но однажды, после этих слов, глаза его в изумлении расширились. Далеко по дороге появилось движущееся облако, из которого мало-помалу вырисовывались неясные силуэты. Я узнал Абу-Гуруна, его развевающуюся одежду, высокий рост и прихрамывающую походку. Измученный долгой дорогой, он очень заметно волочил ногу.
Абу-Гурун сел рядом со мной и стряхнул пепел с папиросы. Его худые ноги были покрыты пылью, которую он смахнул полой своего бурнуса. Наконец, он заговорил, останавливаясь на каждом слове, чтобы перевести дыхание.
— Да пребывает с тобой Аллах! Вот и я с двумя товарищами. Этого зовут Серур, а того Несиб. Можешь на них рассчитывать, как на меня самого.
Сироко искоса бросил на них взгляд. Более высокий — Серур — походил на старого шакала. Нос, подбородок, скулы, ключицы выдавались из-под загорелой кожи, словно вымазанной черной смолой. Желтый тюрбан самоуверенно сидел на голове.
Несиб был меньше ростом, с бегающими глазами и мягким телом. Плохо свернутый тюрбан сползал на затылок. Пока Абу-Гурун говорил, Несиб вытирал себе лицо, держа между ногами толстую палку.
После краткого обмена мнениями, мы решили выступить через неделю.
Бангассу давал в мое распоряжение двенадцать носильщиков. Чтобы не перегружать их сверх меры, я взял с собой только немного белья, несколько коробок консервов и разную мелочь, предназначенную для обмена. К этому я прибавил еще барометр-анероид, термометр, микроскоп и несколько карманных компасов.
Сироко остался дома присматривать за коллекциями.
Понадобилось три дня, чтобы добраться до опушки огромного девственного леса. Мы неожиданно увидели его с вершины холма. Он развернулся перед нашими глазами, — широкий, как море, теряясь в бесконечной дали своими колышущимися косматыми гребнями. Молча, в нерешительности, прислушивались мы к его могучему голосу, долетавшему до нас.
Издали он казался непроходимым. Суеверный ужас оледенил нас. Зачем искушать судьбу и углубляться под своды леса, кишащего хищными зверями?
Абу-Гурун понял, что должен показать пример. Одним прыжком бросился он в чащу и остальные сейчас же последовали за ним. Лес встретил нас приветливо. Пройдя опушку, мы очутились в растительной галерее, колоннами которой были несчетные вековые деревья, поддерживавшие ее свод. Направо и налево открывались подобные же галереи; слышен был только шум листвы. На главных ветвях цвели висячие сады, пронизанные то там, то сям лучистым мечом солнца.
— Право, — сказал я, обращаясь к Абу-Гуруну, — ты наклеветал на девственный лес.
— Терпение! — ответил он мне. — Лес — как публичная женщина, хорошо знает свое ремесло. Когда наступит нужный момент, она потребует своей платы.
Вечер прошел, не принеся разочарований.
Для остановки мы выбрали свежую и светлую лужайку.
Прекрасные деревья с гагатовыми стволами раскинулись далеко, насколько хватал глаз. Бесчисленные птицы собрались сюда со всех сторон, ища ночного пристанища. Они сверкали в листве, как роскошные золотые и бирюзовые плоды.
Первый раз в жизни я слушал симфонию их пения среди такой глуши. Голос одного певца не покрывался голосом другого и ни один диссонанс не нарушал согласного аккорда; вариации малиновки и ритурнели славки сливались с печальным рокотом голубок. Время от времени раздавались, в виде аккомпанемента, отрывистые крики хищных птиц, медленными кругами спускавшихся на отдых.