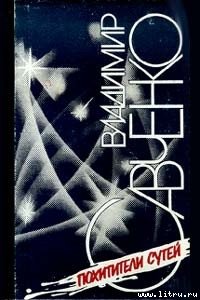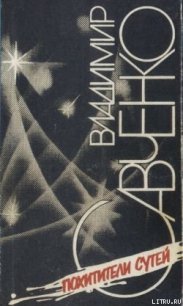Должность во Вселенной - Савченко Владимир Иванович (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
— Как? — спросил Толюня.
— Как единица просто и единица с девяносто тремя нулями. 1093.
— О!.. Это даже и сопоставить невозможно.
— Если поднатужиться, то возможно, дорогой Анатолий Андреевич, — с удовольствием возразил доцент. — Это соотношение событийного объема какого-нибудь искусственного атома… ну, там менделеевия, курчатовия, кои доли секунды живут, — с существованием нашей Земли, шара размером в двенадцать с лишним тысяч километров, прожившего уже пять миллиардов лет и рассчитывающего еще на столько же. Как мал человек!.. Но и это не все: событие «познание человеком мира» еще порядка на три меньше — а у кого и на четыре, на пять, на шесть. Много ли, действительно, мы времени на это расходуем, большую ли часть организма этим загружаем? Слух, зрение, немного руки да кора головного мозга. И получается, что малую долю своего события-существования этот «короткоживущий атом» человек может узнать то, что другие такие «атомы познания»… или, может быть, вернее, «вирусы познания», а, Анатолий Андреевич? — узнали о мире и жизни, добавить кое-что от своих наблюдений и раздумий — и объять мыслью всю Вселенную! Как велик человек!
— Это если правильно, — подумав, сказал Васюк-Басистов.
— Что — правильно?
— Если он правильно понимает мир и свое место в нем. Тогда это действительно событие.
И когда под вечер он возвращался, мир для него — спокойно-гневного, со Вселенской бурей в душе — был иррационально прост. Планетишка без названия моталась вокруг звезды без названия — да и не она, а смерчик квантовой пены, взбитой и закрученной бешеным напором времени. И город был лишь местом дополнительного бурления на планете, турбулентным ядром какой-то струи, все, что перемещалось по улицам, поднималось, опускалось, вращалось, звучало, испускало запахи и отражало свет, — все было искрящимся кипением в незримом тугом потоке.
И чувства все, которые обычно руководили им, как и другими, в делах житейских, сейчас обесцветились, обесценились: за ними маячил иной смысл — недоступный словам, неизреченный, но не такой. Он не переживал их сейчас — восходил над ними; делалась понятной содержательность молчания, многозначительность невысказанного, мощь смирения и стремительность покоя — сущности Бытия. И все освещало отчаяние, великое космическое отчаяние того, кто знает, но изменить ничего не может.
Так было, пока не доходил до ворот детсадика, где его уже выглядывал Мишка, пока теплая ладошка сына не вкладывалась в его руку. Тогда Анатолий Андреевич замечал, что день во второй половине разгулялся, светит солнце, по-июльски жарко — плащ сыну ни к чему.
— Снимай, давай сюда.
Тот радостно снял, отдал и берет. Поглядел снизу на отца:
— Па, а тебе опять будет?…
Толюня потрогал щеки: да, действительно. И не то чтобы времени не было побриться, хватало наверху времени на все — в голову не пришло. «Если Саша не вернулась, успею дома».
Мишка был невесел.
— Пап, — спросил он, — а как в твое время дразнились?
Вопрос был неожиданный.
— А что такое?
— Да понимаешь… там у нас одна девчонка, она дразнится. А я ничего не могу придумать для нее.
— Как она тебя дразнит?
— Та-а… — сын отвернулся, произнес мрачно: — «Зубатик-касатик, кит-полосатик»…
«Самое обидное в детских дразнилках — их бессмысленность, — думал Анатолий Андреевич. — Ну, ладно — зубатик: у Мишки крупные длинноватые передние зубы, их он унаследовал от меня. Но почему — касатик? кит? полосатик?…»
— А как ее зовут?
— Да Танька.
— А, тогда просто: «Танька-Манька колбаса, кислая капуста!»
— Ну, пап, ты даешь! — разочарованно сказало дитя. — Так в малышовке дразнятся, а я с сентября в старшую группу перехожу!
И Толюня почувствовал замешательство и вину перед сыном.
Глава 19. Триумф Бурова
«Люби ближнего, как самого себя». Для этого надо прежде всего как следует научиться любить самого себя. Эта наука настолько разнообразна и увлекательна, что осваивается всю жизнь — и на любовь к ближнему времени не остается.
Внизу была ночь — время, когда работы в башне сходили почти на нет. В зоне и в самых нижних уровнях еще что-то шевелилось, делалось, а вверху было пусто. И выше, над башней, в ядре Шара была Ночь, пауза между циклами миропроявления, — та вселенская Ночь, во время которой, по древнеиндийской теории, все сущее-проявленное исчезает, чтобы затем турбулентно проявить себя снова при наступлении вселенского Дня.
Посредине между ночью и Ночью находился Буров. Он поднимался в кабине к ядру Шара, поднимался один и потаенно, даже выключив подсвечивающие прожекторы на крыше, чтобы не всполошить охрану. Ничего бы они там, внизу, не успели сделать, если б и заметили — едва хватило бы им времени на подъем. Ни с кем Виктор Федорович не желал делить ни радость победы, радость реализации выношенного замысла, ни горечь возможного поражения. (Когда идея пришла в голову, он больше всего боялся, как бы она не осенила еще кого-нибудь, скорее всего быстрого на смекалку Корнева. И необходимые заказы в мастерские выдал сам, и решил не откладывать опыт на завтра, после того как испытал сегодня — в компании с Мишей Панкратовым — «пространственную линзу»).
Не следовало бы, конечно, подниматься без напарника и страховки внизу — ну, да ничего. Они здесь многое делали так, как не положено. В приборах он уверен, почти все они — его детища. Он лучше других знает, как из них побольше выжать.
Исследования MB разрастались; в последние дни кабину ГиМ приспособили для долгой работы наверху. В углу положили застеленный простынями поролоновый матрас, подушку — можно прилечь отдохнуть, расслабиться; рядом холодильничек для харчей и напитков. А в закутке стояла герметичная пластмассовая посудина для мочи. Живая тварь — человек, что поделаешь, все ему надо. Сейчас все это было кстати. Кроме бутербродов. Буров прихватил термос с кофе. Виктор Федорович был полон решимости не возвращаться, пока не исполнит намеченного.
Главным, однако, был иной, совсем новый предмет в кабине: привинченная шестью винтами над пультом управления прямоугольная панель со многими клавишами, кнопками, тумблерами и рукоятками; провода от нее разноцветным жгутом тянулись за пульт. В схеме панели наличествовали не только электронные датчики, но и микрокомпьютер.
Кабина вышла на предел, система ГиМ развернулась и застыла. Вверху разгорался очередной Шторм, вселенский День. Буров включил поля, но не спешил внедряться в MB; только, поглядев вверх, наметил цель: клубящуюся интенсивным сиянием сердцевину Шторма, наиболее перспективное по обилию образов-событий место. Надо заметить, что Виктор Федорович и всегда-то (кроме, может быть, самых первых подъемов в MB) не был склонен впадать в экстаз-балдеж от развертывавшихся над кабиной космических зрелищ, а сейчас и вовсе он смотрел на них оценивающим, практическим… или, вернее даже, техническим — взглядом: Вселенная там или не-Вселенная, мне важно привести ее в соответствие со своей электронной схемой. В заглавных буквах пусть это воспринимают Другие.
«Итак, первая ступень, первая остановка — Шторм. Это будет клавиша 1, левая… — Буров достал фломастер, склонился к панели, поставил над белой клавишей слева единицу, щелкнул тумблером. — Пространственно-временная сердцевина его, куда мы всегда стремимся, — клавиша 2… — Он нарисовал над соседней клавишей двойку, щелчком тумблера задействовал и этот каскад. — Наметим сразу и остальные: Галактика-пульсация — клавиша 3, протозвезда или звездопланетная пульсация — четыре, планетарный шлейф или планета около — клавиша 5. Пока все, теперь можно внедряться…»
Он вводил кабину в Меняющуюся Вселенную, сначала в сердцевину Шторма, затем в избранную Галактику — но вводил по-новому: нажимал клавиши, подрегулировал дистанцию и ускорение времени педалями, затем фиксировал положение поворотом рукояток на панели, пока стрелки контрольных приборчиков не возвращались на нуль; настраивал схему на MB.