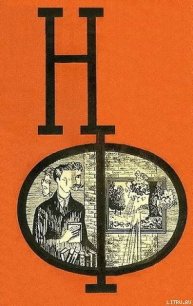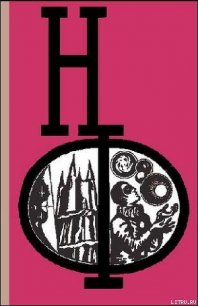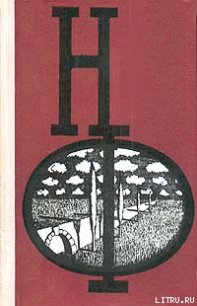НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 14 - Альтов Генрих Саулович (мир бесплатных книг txt) 📗
— Это даже не вопль, — сказал я. — Это что-то вроде молнии. Смерч какой-то. Таран. Который не ударяет в тебя, а тащит, увлекает куда-то, втягивает с неожиданной, всесокрушающей силой…
— Вы что-нибудь понимаете? — иронически спросил у Шрамова Листовский. Таран, который тащит. Вопль, который молния. Вот она, изнанка поэтической натуры. «Что-то», «куда-то», «какой-то»… Какой? Куда?
— Не попробовать ли вам самому? — грубовато предложил я. Он крепко начинал мне действовать на нервы.
— Те, с кем мы работали до сих пор, были точны, как в аптеке! наставительно произнес он.
— Зато их добыча была мизерной, — отвечал Шрамов. Я видел, что он в восторге от сегодняшнего опыта. Лаборант блондин тоже поощрительно улыбался мне из своего угла.
Так это началось. Теперь дважды в неделю, по вторникам и пятницам, я после перерыва уходил из своего планового отдела и по длинным, сумрачным коридорам долго шел в сектор У, где на третьем этаже располагалась маленькая лаборатория Шрамова. Я никогда не торопился, шел медленно, будто прогуливаясь, и все-таки ни разу не опоздал. Всегда что-нибудь было неготово. Листовский, этот одержимый, не терпел простого повторения опыта с изменением какой-то одной величины измерения. Он менял все, что успевал за два дня между экспериментами. Дай ему волю, он никого не отпускал бы по ночам, только бы к назначенному сроку целиком, самым капитальным образом перемонтировать всю установку. И по-прежнему он повторял, пожевывая сигаретку, что не разделяет общей восторженности от нового испытуемого: ничего принципиально в моих показаниях он не находил.
— Пожалуй, только девятая секунда, — сказал он после четвертого эксперимента. — Вот это действительно интересно. Что-то тронулось, что-то поехало…
— Вы тоже переходите на поэтический язык, — сказал ему Шрамов, лучезарно улыбаясь. — Что, собственно, тронулось? И что, собственно, поехало?
— Мне разрешается пользоваться этим языком, — сказал Листовский. — Я по другую сторону барьера.
Пока шли последние приготовления, я переодевался в кабинетике Шрамова и потом долго сидел у окна, дожидаясь приглашения. Со своего места я видел голые деревья на бульваре и красно-желтый трамвай, скрипевший тормозами у поворота. Это был осенний, привычный, холодный мир, и было странно, что немного спустя он отодвинется, как бы отменится другим, странным, удивительным, к которому все эти понятия — привычность. холодность, определенность времени года — не имели даже косвенного отношения.
— А вы знаете, — сказал я однажды Шрамову, — когда-то, в детстве, прочитав фантастическую повесть про детишек, уменьшившихся до размера спички, я мечтал уйти туда, в этот веселый, милый, славный мир, к мотылькам, стрекозам, комарикам…
— Любая мечта в конце концов исполняется, — сказал профессор, — только иногда не приносит искомого удовлетворения. Шучу, шучу…
— Конечно, — продолжал я, — чуть только я занялся энтимологией, стало ясно, что все эти стрекозы, букашки, милый пейзанский мир — все это миф, сказка, байка для услады слуха. На самом деле, мир насекомых жесток и страшен. Все это я знал. Но лишь теперь я понимаю, насколько самочувствие насекомого, хотя бы той же «глория рексус», не выразимо человеческими словами.
— Только не надо забегать вперед, — осторожно говорил Шрамов. — Может быть, пока невыразимо. Может быть, мы еще определим нужные нам инварианты, чтобы выразить все это в наших представлениях.
Он крепко верил в свою идею. Снисходя к моему невежеству, он часто объяснял мне самыми простыми словами, что хорошей аналогией к их затее будет устройство, передающее звуковые колебания в виде световых или наоборот. Наш случай был, конечно, куда сложнее, и все-таки в основе его, как я понимал, лежал принцип перекодировки. Громадная счетно-решающая махина нашего института работала на нас в минуты эксперимента, пересчитывая многочисленные реакции организма бабочки на величины, обладающие знаковой выразительностью в нашей, человеческой специфике.
Шестой опыт оказался самым удачным после первого. Листовский, не говоря никому ни слова, самовольно переместил источник света на другую сторону от оранжереи и поставил его чуть дальше. Ловушка была предельно наивной: мои слова об отсутствии верха и низа в ощущении бабочки должны были разойтись с тем очевидным обстоятельством, что «молния», «вопль», «таран» надвинулись с иной стороны. Произошло то, что и должно было произойти: я снова не почувствовал ни верха, ни низа, снова фиолетовая точка вспыхнула где-то очень далеко и тут же оказалась вверху, после чего сила, тянущая к ней, превратилась в неотвратимую силу бездны, безостановочного падения. Все это я и изложил, придя в себя после опыта, отметив при этом коротко, что сегодня «верх» был в другом месте.
— В каком же именно? — прищурился Листовский. — Вы можете, ориентируясь в оранжерее, сказать, где примерно вы видели светящуюся точку?
— Я — нет, — сказал я. — Разве только бабочка смогла бы это.
Таким образом, мы снова разошлись при ничейном счете.
— Знаете, отчего он так придирчив? — спрашивал меня Шрамов, явно боясь, как бы наши отношения не разладились окончательно. — Вы думаете, из-за вздорного характера? Из-за нежелания считаться с окружающими? Ах, если бы только это! Тогда все было бы просто, и я никогда не работал бы с этим фанатиком. Нет, самое смешное и, может быть, трогательное состоит в том, что он — ребенок, чистая душа, и сейчас больше нас всех рад, безумно счастлив, что с вашей помощью добыты такие результаты. Настолько счастлив, что считает это непозволительным. Прячет свою радость от себя и других…
Но только после девятого опыта я понял, чего втайне опасался Листовский.
— Нет тошноты, — сказал он.
— Да, нет, — сказал Шрамов. — Но так ли уж это плохо?
— Редкая отчетливость ориентиров, — продолжал Листовский.
— Ага, значит, вы признаете ее!
— Наконец, интенсивность памяти в степени, не виденной нами накануне, голос Листовского был строг, как будто он перечислял список преступлений в обвинительном акте. — Не слишком ли много всего этого?
— Этого не может быть много, — сказал Шрамов, но по лицу его я понял, что он только сейчас догадался о мысли Листовского, и она причинила ему боль.
— Может! — продолжал его подчиненный. — Может и еще как может!
— Извините, — сказал я. — Наверное, мне лучше уйти?
— Я ничего не имею против вас лично! — сказал Листовский подрагивающим голосом. — Никто ведь и не говорит, что перед нами заведомая мистификация. Просто поэтическая натура мечтательного бухгалтера могла выкинуть со всеми нами веселенькую штучку.
— Ага, — сообразил я. — Вот, значит, что вы хотите сказать. Что ничего из рассказанного мною я не испытывал?
— Испытывали! Еще как испытывали! Того, что вы говорили, нарочно не придумаешь. Но только все эти живописные подробности были вызваны к жизни не нашей аппаратурой, а, скажем так, обстановкой опыта, вашим состоянием, близким к трансу, вашими многолетними грезами о житье-бытье простых бабочек и мотыльков…
— Пре-кра-тите! — воскликнул Шрамов. — Есть же предел всему!
Я встал и ушел из лаборатории, думая, что прощаюсь с ней навсегда; но, оказывается, они меня тоже заразили своим энтузиазмом. Вечером следующего дня я уже перестал видеть обиду в том, что кто-то подозревает во мне шамана, самогипнотизера. Поэтому, когда вечером в понедельник Листовский, поникший и очень серьезный, явился к нам в отдел и, вызвав меня в коридор, попросил прощения за резкость, я не стал особенно миндальничать.
— Ладно, бывает, — сказал я. — Кстати, мне пришло в голову кое-что относительно этой самой тошноты. Мы, люди, ощущаем свое тело, верно? Пусть не очень четко, но ощущаем — что-то от тока крови, что-то от пульсации кишок и так далее, верно?
— Почти верно, — сказал он. — Я улавливаю вашу мысль, хотя она выражена с прямотой дикаря. Простите, — тут же добавил он, не скрывая, что отныне будет подчеркнуто расшаркиваться после каждого своего неосторожного слова.