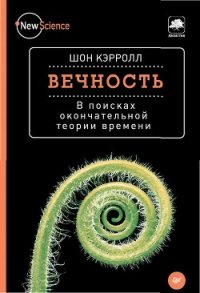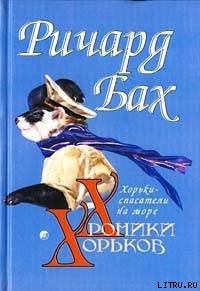Панорама времен - Бенфорд Грегори (Альберт) (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
Он потратил час на проверку новых уравнений. Они давали разумное решение для ограниченных задач, с которыми он сталкивался. Приняв малую длину шкалы и пренебрегая гравитационными эффектами, он вывел стандартные уравнения релятивистской теории частиц. Несколькими росчерками пера он получил результаты Эйнштейна. Однако когда уравнения Уикхем брались целиком, без ухода на знакомую территорию, выходило что-то туманное. Он уставился на короткие обрывистые примечания. Вот если проскользнуть через этот узел, отбросив кое-какие члены уравнений… Нет, так дело не пойдет. Здесь нужно проделать кое-что еще весьма искусно, идя вперед по данным заложенным в самой работе. Во-первых, помимо логических стандартов, возникали вопросы эстетики. Развитие физики всегда сопровождалось появлением ранее неизвестных, более элегантных структур. Во-вторых, после того как вы разберетесь в этих структурах, оказывалось, что они не только элегантнее, но и проще. В-третьих, из этих структур вытекали следствия, более сложные, чем предшествующие. Постоянной ловушкой для тех, кто ищет новые пути, является проблема преобразования последовательных шагов на этом пути. Очень трудно объяснить это явление философу. В математике есть что-то такое, что не улавливается вами, если вы не будете за этим внимательно следить. Платон — великий философ, и ему хотелось бы, чтобы все планеты перемещались по единому комплексу окружностей, чтобы за ними было легче наблюдать. Но, как установил Птолемей, законы, которые позволили бы осуществить это внешне простое движение планет, оказались бы невероятно сложными. Это означало бы наличие сложных законов, ведущих к простым последствиям. Поэтому все работы Птолемея свелись к теории, которая звенела и стонала, — к кристаллическим сферам, трущимся друг о друга, к осям, колесам, зубчатым передачам и к куполообразной машине, элементами которой все они должны были являться.
С другой стороны, теория Эйнштейна оказалась более элегантной, чем теория Ньютона. Однако разобраться в ее последствиях было гораздо труднее — то есть получалось все наоборот. Маркхем задумчиво почесал бороду. Если иметь это в виду, то вы отбросите многие подходы еще до начала работы, поскольку будете знать заранее, что они ни к чему не приведут. Нет выбора между красотой и истиной. Вам приходится иметь дело и с той, и с другой одновременно. В искусстве элегантность слыла словом-шлюхой, которое каждое поколение критиков использовало по-своему. Однако в физике действует положение, полученное на основе тысячелетнего опыта: теории являются более элегантными, если они могут быть преобразованы математически в другие структуры другими исследователями. Теория, остававшаяся неизменной при любых трансформациях, — наиболее правильная, наиболее близкая к универсальной. Симметрия SU (3) Гелл-Манна расположила частицы в универсальном порядке. Группа Лоренца, изоспин, каталог свойств, получивший название “Странность, цвет и очарование”, — все вместе составили из призрачных цифр конкретную Вещь. Итак, чтобы пойти дальше Эйнштейна, нужно следовать симметриям.
Маркхем в поисках истины царапал на желтой бумаге одно уравнение за другим. Он собирался провести это время, разрабатывая тактику переговоров с ННФ, но политика — мелочь по сравнению с научной работой. Он пробовал различные подходы, преобразуя тензорные записи, вглядываясь в математические дебри. У него имелся один руководящий принцип: казалось, сама природа любила уравнения, изложенные в ковариантной дифференциальной форме.
Он вывел уравнения, которым подчинялось движение тахионов в плоском пространстве-времени, рассматривая эти изыскания как случай граничных условий. Удовлетворенно кивнул. Ну вот, знакомые квантово-механические волновые формулы. Он знал, куда они ведут. Тахионы заставляют волну вероятности отражаться вперед и назад во времени. Уравнения показали, как эта волновая функция будет сновать из прошлого в будущее, из будущего в прошлое, словно сбитый с толку пассажир пригородной электрички. Создавать парадокс — означает признать, что у этой волны нет конца и образующаяся система стоячих волн подобна зыби вокруг мола в океанских защитных сооружениях, когда смещаются пики и провалы, но все возвращается обратно, не меняет поверхности моря. Единственный способ разрешения парадокса состоит в том, чтобы вступить в него, разорвать устоявшуюся систему, подобно тому как корабль бросается в волны, оставляя за собой бурлящее море. Корабль служил примером классического наблюдателя. Но теперь Маркхем добавил в уравнения дополнительные члены, разработанные Уикхем, в результате чего они стали симметричными при обмене тахионами. Он покопался в кейсе и достал работу Готта “Космология симметричных во времени тахионов материи и антиматерии”, которую передала ему Кэти. Как раз такой кусочек территории, который можно отхватить. Однако здесь были выкладки Готта, силы Вилера-Фейнмана, с помощью которых давались решения относительно опережающих и отстающих тахионов, вместе с неевклидовыми суммами. Маркхем заморгал. В искусственно созданной тишине он сидел совершенно неподвижно, и только глаза блестели, а воображение мчалось вперед, чтобы увидеть, где уравнения будут смыкаться и разделяться, образуя новые явления.
Волны стояли неподвижно и безгласно, в общем хаосе. Но здесь не нашлось места для корабля — классического наблюдателя. Старая идея в обычной квантовой механике состояла в том, чтобы дать остальной части Вселенной стать наблюдателем, позволить ей заставить волны распасться. Однако в этих новых тензорных членах уравнений не было места возврату назад, не существовало способов дать Вселенной возможность в целом стать стабильной точкой, относительно которой все может быть измерено. Нет, Вселенная жестко связана. Поле тахионов соединило все кусочки материи друг с другом. Захват дополнительных частиц в эту сеть мог только осложнить ситуацию. Старые квантовые теоретики от Гейзенберга и Бора в этой точке прибегали к метафизике. Волновая функция разрывалась, и значение этого факта нельзя преуменьшать. Вероятность получения конкретного решения была пропорциональна амплитуде этого решения в пределах всей волны, а потому в результате вы получаете только статистическую оценку того, что может произойти при эксперименте. Но при введении тахионов этот кусок метафизики должен уйти. Члены уравнений Кэти Уикхем…
Вдруг он заметил впереди какое-то движение. Пассажир в соседнем ряду хватался за стюардессу, его глаза остекленели. Раскрытый рот, бледные губы, коричневые зубы, щеки покрылись розовыми пятнами. Маркхем вынул заглушки из ушей и вздрогнул от пронзительного крика. Стюардесса уложила человека в проходе, прижав к полу его отчаянно сгибающиеся руки. “Я не могу.., не могу дышать!” Стюардесса бормотала что-то успокаивающее. Человек трясся в приступе. Когда его пронесли мимо Маркхема, он уловил кислый запах, исходивший от больного, и сморщил нос, поправляя очки. В рассеянном свете салона было видно, как тяжело дышал человек. Маркхем снова вставил беруши.
И опять он погрузился в глубокую тишину, ощущая только монотонный, успокаивающий гул моторов. Без звука мир казался губчатым и мягким, как будто максвелловский классический эфир стал реальностью, которую можно ощупывать кончиками пальцев. Маркхем на минуту расслабился, подумав, как он любит такое состояние. Углубление в сложные проблемы уносило его далеко от реальной жизни. Есть много вещей, которые можно увидеть только на расстоянии. С детства он искал это состояние свободного скольжения, стремился уйти от компромиссов бурного мира. Он использовал свои несколько мрачный юмор, чтобы держать людей на достаточном расстоянии от своей жизни. Это иногда распространялось и на Джейн. Ученый должен выработать для себя четкий язык общения с миром, чтобы преодолевать неприятности житейского опыта и заменять грубость и сухость повседневной жизни — нет, не определенностью, но неведением, с которым можно жить. Именно эти пределы являются критическими. Галилеевы блоки, скользящие по мрамору итальянских фойе; их скользкие боковые поверхности повинуются твердой руке инерции — они действительно служили отображением мира. Аристотель в глубине души понимал, что трение правит миром и все вещи молят об остановке. Это был мир человека. Детская игра в бесконечные плоскости и гладкие поверхности, реальность без морщин — все это сплеталось в паутину управляемого порядка бесконечных траекторий, гармоничной жизни. Из этого нарисованного мира всегда нужно возвращаться назад, укрывая волнующие полеты респектабельным дедуктивным стилем. Но, когда появлялись труды с их замаскированными абстракциями и немецким маньеризмом, это вовсе не означало, что ты не побывал в том, другом, месте, о котором редко говорили.