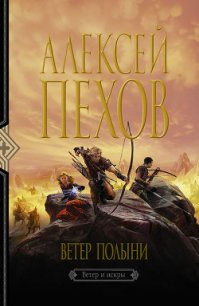Марсианское путешествие (сборник) - Гигевич Василий Семенович (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
После длительных поисков я нашел такое или почти такое. Как когда-то говорили в Житиве, кто что ищет, тот то и находит.
В ту розовую пору, когда мы с улыбкой стояли на пороге загса, мне показалось, что рядом с ней я буду жить так же счастливо, как и те два лебедя, что вечно плавают посреди лесного озера, не зная тревог и сладостных искушений того огромного мира, что начинается сразу же за лесом, за прекрасным чудо-дворцом. Мне казалось, что она поняла, она должна была понять меня тем женским чутьем, которое не поддается логическому мышлению.
Поначалу все было именно так или приблизительно так, как я когда-то мечтал: и белая легкая лебяжья фата, и частная квартира, показавшаяся мне тем чудо-дворцом, что маячил за камышами и деревьями, и сама она, улыбчивая и ласковая…
А потом я однажды стал чувствовать, что мне не хватает слов, чтобы рассказать ей, чем занимаюсь целыми днями на работе.
Это было начало.
Я ничего не понимал. Даже того, что попадаю в круг одиночества, в который до меня попадало столько ученых, когда они месяцами и годами не могли говорить с родными о смысле своей работы.
Ибо, сказав ей, что я конструирую сверхновый микроскоп для Валесского, я еще ничего не сказал, это было почти то же самое, что на вопрос: «Как живешь?» — отвечают: «Нормально». В моем бодром работаю скрывалось то неведомое, к чему я даже и ее, жену, не мог подпустить.
Сначала я этого и сам не понимал, наивный, я надеялся легко перескочить через границу между моим и ее пониманием и поэтому сразу же стал объяснять ей захватывающий мир формул и графиков, на листках бумаги я рисовал для нее схемы электронного микроскопа и объяснял принцип его работы. Она слушала, смотрела, согласно кивала головой и сразу же засыпала…
Тогда я понял, что все, из-за чего я не сплю ночами, из-за чего просиживаю днями в лаборатории и в институтской библиотеке, — ей чуждое и далекое, мои формулы и графики, мои варианты схем электронного микроскопа ей неинтересны, как ребенку неинтересны мысли о бытии и смерти.
И незачем мне было удивляться, а тем более обижаться на нее, я ведь сам когда-то хотел этого: чистенького, беленького, ничем не запятнанного… Все было правильно и логично, как всегда, житивцы говорили правду: кто что ищет, тот то и находит… А поэтому скажите, пожалуйста, зачем ей вереницы запутанных сложных формул, от которых ей ни жарко ни холодно, зачем ей и сам сверхновый электронный микроскоп, зачем ей моя раздражительность от неудач, которых в жизни — не мной придумано и не мной заведено — намного больше, чем удач, зачем ей готовить завтраки для меня — зачем ей все это, может, ей все это нужно не больше, чем тем красивым белым лебедям, которые беззаботно плавают посреди лесного озера.
Она была такой же, какой была и до моего знакомства. Она и не думала менять свои идеалы беззаботности. Какой она была, такой и осталась. И что же тогда нужно мне от нее, какого дьявола?
И поэтому все остальное было логическим и простым, чему не стоит даже удивляться: угрожающая неуютная тишина в квартире, холод рядом с женой, который ощущался всем телом как жарким летом, так и зимой, бесконечная купля-продажа мебели, посуды, которыми все больше и больше забивалась квартира, — как и многие, мы поначалу наивно верили в сказку о счастье, которое может прятаться между коврами, сервантами, хрусталем и фарфором…
А потом мы поняли, догадались наконец, что же нас могло по-настоящему объединить: телевизор… Не потому ли, как и многие, мы старались достать телевизор как можно больших размеров, сначала черно-белый, а потом цветной, чуть ли не на полстены…»
ИЗ МОНОЛОГА ЛАБУТЬКИ
«С появлением сына моя жизнь обрела именно тот смысл, к которому я так стремился. Часто я насмехался над Валесским и Олешниковым, часто говорил им, счастливый и уверенный в своей правде, что они не понимают, не хотят или не могут понять главное: счастье наше — в наших детях, в семье…
Поначалу я был счастлив: и когда усердно подсчитывал, сколько недель сыну, когда учил его ходить, когда обучал словам, услышанным от матери, и даже позже был я счастлив, когда по утрам водил сына в детский сад, а вечерами, забирая из сада, по дороге рассказывал сыну увлекательные истории, похожие на сказку, которые, однако, сказкой не были…
Месяцами я пропадал в командировках. Возвратившись, с удивлением отмечал, как неожиданно быстро подрастал, тянулся вверх сынишка, словно рос он как раз тогда, когда я был в командировке. Я снова заводил с сыном разговоры, которые начал еще раньше, когда отводил его в детский сад. И не замечал, занятый своей отцовской радостью, что сейчас мои разговоры для сына — всего лишь разговоры, которые он и без меня слышал и слышит ежедневно бесчисленное множество: в школе, на улице, с экрана телевизора, в кинотеатре, в кругу друзей-ровесников. И все чаще и чаще, не дослушав меня, сын срывался из квартиры к своим ровесникам, к той молодой загадочной жизни, от которой я не мог его оградить. И когда я пытался в чем-то перечить сыну, он как-то излишне спокойно и убежденно говорил мне: «Батя, так ты ведь тоже срываешься от нас на целые месяцы. Так что — все нормалево. Чао, батя…»
Я оставался один и все размышлял, стоит ли его ограждать. И школа, и улица, и город, и все остальное, среди чего вырос сын, начиная с дискотеки, которую они организовали в школе, было для него естественным и простым, все это было для сына тем, чем для меня когда-то было Житиво.
И все же Житивом оно не было…
Все в мире повторяется: когда-то я вырвался из Житива, а он, сын мой…
Куда он мог пойти, к чему или к кому — вот что не давало мне покоя.
И вот, наконец, наступил тот неожиданный для меня день, который, видимо, бывает у всех родителей, когда я совсем другими глазами посмотрел на сына, на его темные усики, на узкие адаманистые джинсики, на тонкие и высокие, как у женщины, каблуки, и, словно на стену, натолкнувшись на холодный уверенный взгляд сына, на мое удивление: «И ты, мой сын?..» — услышал такой монолог, на который вначале ничего не мог ответить или хотя бы возразить.
— Батя, — так начал сын свою правдивую исповедь, — батя, может, хватит заниматься черепками да горшками, которые нынче никому не нужны? И меня тоже незачем тянуть туда, в глухую минувщину. Все, чем ты занимаешься, батя, это хорошо и, может, даже интересно, как бывает интересна сама по себе наука. Однако неужели ты не понимаешь, что все, на что ты тратишь свою жизнь, — это детская игра, только имитирующая реальную жизнь?.. И ты, и Олешников, и Валесский — вы будто с ума посходили из-за науки. Вам хотя и поют хвалу в мировой печати, однако вы совсем оторвались от реальной жизни и поэтому не чувствуете и не замечаете, что мир нынче не таков, каким был, когда вы босиком бегали по своему глухому заштатному Житиву. Неужели и на самом деле вы не понимаете, что ваша одержимость никому не нужна? Батя, когда бы все в мире было так, как ты мне заливал пятнадцать лет, человечество и до сих пор ходило бы в лаптях и до сих пор люди сидели бы по деревням… Батя, опомнись, пока не поздно, услышь иную правду, хоть от меня. Сейчас другой век и всяческим пророкам и гениям с их категоричностью здесь нечего делать. Сейчас наступил новый век — век посредственностей, ибо человечеству надоели гениальные призывы, которые все чаще противоречат друг дружке, нынче мы все вместе — заметь и запомни хотя бы это — все вместе, и праведники, и грешники, ищем истину. Коллективно. Как коллективно создается ныне высший вид искусства — киноискусство, так же коллективно люди ищут истину… И в дискотеках, и в научных лабораториях, и во время праздных шатаний по улицам, и в вечернем кайфе, когда наши уставшие души расслабляются от коктейля и сигаретного дыма, теми балдежными сладострастными вечерами, которых вы, взрослые, почему-то боитесь как черт ладана — все и везде ищут истину. И ты. И я. Ваше поколение пускай ищет ее в чем угодно — в археологии, в вирусологии, как Валесский, а мы, молодежь, будем искать ее в другом и по-другому… И, пожалуйста, пускай вас это не колышет. И не удивляет.