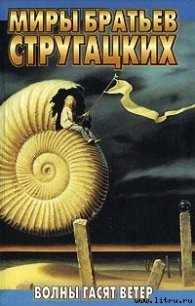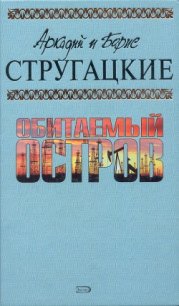Парень из преисподней, Беспокойство, Жук в муравейнике, Волны гасят ветер - Стругацкие Аркадий и Борис
Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать - хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой - «колдун», «солдат» или «человек».
Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.
- Я ничего подобного не видел, - объявляет Эспада. - Поговорите с ним, Лев…
- Уж очень он стар, - с сомнением говорит Вандерхузе.
- Сейчас умрет, - ворчит Щекн.
- Вот именно, - говорю я. - Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне…
Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.
- Все, - говорит Щекн. - Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.
Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.
Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть…
Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.
Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.
Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.
- Этот старик, - произносит он, тщательно вылизывая лапу, - его действительно оживили?
- Да.
- Он снова живой, ходит, говорит?
- Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.
- Жаль, - ворчит Щекн.
- Жаль?
- Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ…
- Где?
- Там, где он был, когда стал мертвым.
Я усмехаюсь:
- Ты думаешь, там что-нибудь есть?
- Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.
- Куда девается электрический ток, когда его выключают? - спрашиваю я.
- Этого я никогда не мог понять, - признается Щекн. - Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я - это мне известно и понятно.
- И где же ты был, когда тебя еще не было? - коварно спрашиваю я.
Но для Щекна это не проблема.
- Я был в крови своих родителей. А до этого - в крови родителей своих родителей.
- Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей…
- А если у меня не будет детей?
- Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях…
- Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?
- В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей…
- Как это - не помню? - удивляется Щекн. - Очень многое помню!
- Ну да, действительно… - бормочу я, сраженный. - У вас же генетическая память…
- Называть это можно как угодно, - ворчит Щекн. - Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей.
Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.
Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.
- Ты меня удивляешь, Лев, - объявляет он. - И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?
- Мы работаем, - возражаю я лениво.
- Зачем работать без всякого смысла?
- Почему же - без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.
- Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаёте и узнаёте и ничего не делаете с тем, что узнаёте.
- Ну, например? - спрашиваю я.
Щекн - великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.
- Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?
- Это не совсем яма, - говорю я. - Это скорее дверь в другой мир.
- Вы можете пройти в эту дверь? - осведомляется Щекн.
- Нет, - признаюсь я. - Не можем.
- Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?
- Сегодня не можем, а завтра сможем.
- Завтра?
- В широком смысле. Послезавтра. Через год…
- Другой мир, другой мир… - ворчит Щекн. - Разве вам тесно в этом?
- Как тебе сказать… Тесно, должно быть, нашему воображению.
- Еще бы! - ядовито произносит Щекн. - Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его…
Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.
Это совершенно нормальный абориген - судя по всему, из категории «человеков» - крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.
Я осторожно завожу руку за спину и включаю линган транслятора.
- Подходи и садись, мы друзья, - одними губами говорю я.
Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки.
Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.
- Не бойся, - говорю я. - Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.
Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.
- У нас вкусная еда, - не сдаюсь я. - Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу…
Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.
- Уходит, - ворчит Щекн.
И я тут же снова вижу аборигена - он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.