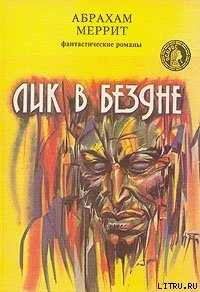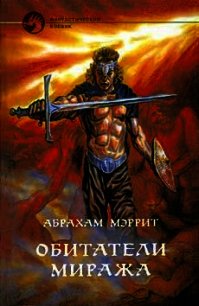Три строчки на старофранцузском - Меррит Абрахам Грэйс (книга читать онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
Майор не был ученым, но он был французом, человеком, и тоже обладал воображением. Он пожал плечами, но придвинулся чуть ближе к лежащему ружью.
– Мы обсуждали, ваши офицеры и я, – продолжал культурный голос, – сновидения, которыми полуспящий мозг стремится объяснить прикосновение, незнакомый звук или что-нибудь другое, пробуждающее от сна. Допустим, рядом со спящим разбито окно. Он слышит, сознание стремится объяснить услышанное, но оно отдало контроль подсознанию. И подсознание тут же приходит на помощь. Но оно безответственно и может выразить себя только в образах.
– Оно берет этот звук – и сплетает вокруг него некую романтическую историю. Оно пытается объяснить, как может, – увы! в лучшем случае это только фантастическая ложь, и как только сознание пробуждается, оно тотчас понимает это.
– И производит подсознание свои образы невероятно быстро. Оно может в долю секунды создать целую серию событий; в реальной жизни они заняли бы часы… или дни. Вы следите за мной? Возможно, вы понимаете, о каком эксперименте я веду речь?
Лавеллер кивнул. Горький, всепожирающий гнев все усиливался. Но внешне он оставался спокоен, насторожен. Он выслушает, что это самодовольный дьявол с ним проделал, а потом…
– Ваши офицеры не согласились с некоторыми моими выводами. Я увидел вас здесь, усталого, сосредоточенного на своих обязанностях, в полугипнозе от напряжения и постоянных вспышек снарядов. Вы представляли прекрасный клинический случай, непревзойденный лабораторный материал…
Сможет ли он удержать свои руки вдалеке от горла хирурга, пока тот не кончит? Люси, Люси, фантастическая ложь…
– Спокойно, mon vieux [2], – прошептал майор. Да, он должен ударить быстро, офицер слишком близко. Но майор должен смотреть в щель за него. Когда Питер прыгнет, майор будет смотреть туда.
– И вот, – хирург говорил в лучшей академической манере, – и вот я взял веточку искусственных цветов, которую нашел между страниц старого молитвенника, подобранного в развалинах того шато. На листочке бумаги написал по-французски – я ведь думал тогда, что вы французский солдат. Написал строку из баллады об Окассене и Николетт:
И вот она ждет, когда кончатся дни…
– На страницах молитвенника было написано имя, несомненно, его давно покойной владелицы – Люси де Токелен…
Люси! Гнев и ненависть забыты из-за страстной тоски, тоска вернулась сильнее, чем раньше.
– Я провел веточкой цветов перед вашими невидящими глазами; я хочу сказать, что их не видело ваше сознание; я был уверен, что подсознание их не пропустит. Показал вам написанную строчку – и ваше подсознание и это уловило: и верность в любви, и разъединение, и ожидание. Я обернул бумагой стебель цветов, сунул его вам в карман и прямо вам в ухо произнес имя Люси де Токелен.
– Проблема заключалась в том, что сделает ваше второе я с этими четырьмя вещами: цветком, содержанием строки, прикосновением и именем – захватывающая проблема!
– И не успел я отнять руку, не успели сомкнуться мои губы после того, что я прошептал, – вы повернулись с криком, что смерти не существует, и вдохновенно выложили вашу замечательную историю… все, все создано воображением из…
Но больше он не выдержал. Ослепляющий гнев сжег все сдерживающие начала и убийственно и молча швырнул его к горлу хирурга. Перед глазами его мелькали вспышки – красные, колеблющиеся языки пламени. Он сам умрет, но убьет этого хладнокровного дьявола, который может извлечь человека из ада, раскрыть перед ним небо, а потом швырнуть обратно в ад, ставший во сто раз более жестоким, и никакой надежды во всей вечности.
Но прежде чем он смог ударить, сильные руки схватили его, удержали. Алые огни перед глазами померкли. Ему показалось, что он слышит нежный золотой голос, шепчущий:
– Ничего! Ничего! Постарайся видеть, как я!
Он стоял между офицерами, которые с обеих сторон прочно держали его. Они молчали, глядя на бледного хирурга с холодным недружелюбным выражением.
– Мой мальчик, мой мальчик… – самообладание хирурга исчезло; он дрожал, был растерян. – Я не понимал… простите… я и не думал, что вы воспримете это так серьезно.
Лавеллер сказал офицерам: – Господа, все прошло. Не нужно держать меня.
Они посмотрели на него, освободили, похлопали по плечу, посмотрели на своего гостя с тем же холодным неодобрением.
Лавеллер неуверенно повернулся к брустверу. Глаза его были полны слез. Мозг, сердце, душа – все сплошное опустошение, ни призрака надежды. Его послание, его священная истина, с помощью которой он собирался привести измученный мир в рай, – всего лишь сон.
Его Люси, его кареглазая мадемуазель, которая шептала, что любит его,
– образ, вызванный словом, прикосновением, строчкой, искусственными цветами.
Он не мог поверить в это. Он все еще чувствует прикосновение ее мягких губ к своим губам, ее теплое тело еще дрожит в его объятиях. И она сказала, что он вернется, и обежала ждать.
Что это у него в руке? Листок, в который были завернуты стебли роз, проклятая бумага, с помощью которой этот холодный дьявол поставил свой эксперимент.
Лавеллер скомкал ее, хотел швырнуть к ногам.
Как будто что-то остановило его руку.
Он медленно развернул листок.
Трое смотревших увидели, как на лице его появилось сияние, как будто душа его освободилась от вечной муки. Вся печаль, вся боль – все исчезло, перед ними снова был мальчик.
Он стоял с широко открытыми глазами, видел наяву сны.
Майор сделал шаг вперед, осторожно взял у него листок.
Непрерывно рвались осветительные снаряды, траншея была залита их светом, и при этом свете он рассматривал листок.
Когда он поднял лицо, на нем было выражение благоговейного страха; когда остальные взяли у него листок и прочли, на их лицах появилось то же выражение.
Поверх строки, написанной хирургом, были три строчки – на старофранцузском:
Не печалься, сердце мое, не бойся кажущегося:
Наступит время пробуждения.
Та, что любит тебя. Люси.
Таков был рассказ Мак-Эндрюса, и наступившее молчание нарушил Хоутри.
– Строчки, конечно, были уже на бумаге, – сказал он, – вероятно, они были слабыми, и ваш хирург их не заметил. Шел дождь, и влага проявила их.
– Нет, – ответил Мак-Эндрюс, – их там не было.
– Откуда вы знаете? – возразил психолог.
– Потому что этим хирургом был я, – негромко сказал Мак-Эндрюс. – Листок я вырвал из своей записной книжки. Когда я заворачивал в него цветы, он был чистым – только та строка, что написал я.
– Но было еще одно – назовем это доказательством, Джон, – почерк, которым были написаны три строчки, был тот же, что и почерк в найденном мной молитвеннике, и подпись «Люси» точно та же самая, изгиб за изгибом, причудливый старомодный наклон.
Наступило долгое молчание, нарушенное неожиданно опять Хоутри.
– Что стало с листком? – спросил он. – Проанализировали ли чернила? Было ли…
– Мы стояли в недоумении, – прервал его Мак-Эндрюс, – и вдруг резкий порыв ветра пролетел по траншее. Он вырвал листок у меня из руки; Лавеллер смотрел, как его уносит; не сделал попытки схватить.
– Это неважно. Теперь я знаю, – сказал он – и улыбнулся мне прощающей, счастливой улыбкой веселого мальчишки. – Простите, доктор. Вы мой лучший друг. Вначале я думал, что вы сделали со мной то, что ни один человек не сделал бы другому… теперь я знаю, что это действительно так.
– Вот и все. Он прошел через войну, не ища смерти, но и не избегая ее. Я любил его, как сына. Если бы не я, он умер бы после Маунт Кеммел. Он хотел дожить до того, чтобы попрощаться с отцом и сестрой, и я – залатал его. Он дожил, а потом отправился в траншею под тенью старого разрушенного шато, где его нашла кареглазая мадемуазель.
– Зачем? – спросил Хоутри.
– Он думал, что там он сможет вернуться… быстрее.
– Для меня это совершенно произвольное заключение, – сказал раздраженно, почти гневно психолог. – Должно существовать какое-то естественное объяснение.
2
старина (фр.)

![Лунный бассейн [Лунная заводь] - Меррит Абрахам Грэйс (бесплатные полные книги TXT) 📗](/uploads/posts/books/32320/32320.jpg)