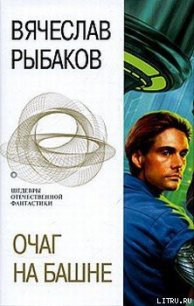На чужом пиру, с непреоборимой свободой - Рыбаков Вячеслав Михайлович (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .TXT) 📗
Так началась Шестилетняя война…
Или – Семилетняя?
Чего-то я вдруг засомневался. Не хватает эрудиции – даже для того, чтоб грамотно пошутить. Мамино, скажем, поколение в этом смысле нашему сто очков даст вперед, свалка памяти у них забита не в пример обильнее. Иногда – завидно.
В комнате вконец смерклось.
Это сколько же развелось черных кошек в нашей комнате! Уму непостижимо. Куда ни встань, наступишь на какой-нибудь хвост. И сразу – невесть чей истошный мяв, и когти из мрака…
Наверное, я снова чуток придремнул, потому что курлыканье телефона прозвучало, как набат; меня буквально подкинуло над диваном. И такая тоска меня, видно, взяла по жене, так мне хотелось, чтобы это был от неё звонок, что, когда в трубке раздался мужской голос, я спросонок поначалу подумал, будто кто-то ошибся номером.
– Антон Антонович? – заговорщически произнесли там.
– Да, – буркнул я, торопливо пытаясь сконцентрироваться.
Как выражаются, по слухам, вьетнамцы – сконцентрируем идеологию.
– Это Никодим Сергеевич, доктор.
Сконцентрировал. Аж в брюхе похолодело. На всякий случай, будто ожидая, что вот сейчас придется немедленно куда-то бежать, я даже спустил ноги с дивана и отчаянно завозил ими по полу, нащупывая тапки.
– Слушаю, доктор. Что-то случилось с нашим пациентом?
– Нет, с пациентом как раз все по-прежнему. А вот у вас появился, – он иронически шмыгнул носом, – конкурент.
– То есть как?
– Приходил один господин и очень интересовался.
– Чем?
– Всем. Что случилось, да каковы предположения, да покажите результаты анализов… Представился, между прочим, адвокатом, которого нашла супруга для горячо любимого бывшего мужа, невинно пострадавшего от милицейского произвола.
– Врет.
– Я так и понял, что врет. Поэтому сразу насторожился.
– Что вы сказали?
– Что все анализы, проведенные на предмет обнаружения следов наркотического воздействия, дали отрицательные результаты. Что нельзя с достоверностью утверждать, кто нанес какие травмы – то ли менты, то ли он ещё до вытрезвона в какую-то драку на улице ввязался, так что судиться, увы, не получится. Что серьезных повреждений на башке не выявлено, но, с другой стороны, ничем, кроме как травмой черепа, нынешнее состояние потерпевшего медицина объяснить не может.
– Никодим Сергеевич, а я бы с вами пошел в разведку.
– Спасибо, не надо. Мой героизм имеет строго очерченные границы. Они совпадают со стенами медицинских учреждений, пусть даже прифронтовых.
– Понял. Что он?
– Подчистую забрал бумажки с анализами.
– А разве это можно?
– Оставил расписку, все чин-чинарем. Адвокат же. Ха-ха. Сказал, что для разговора с супругой ему нужны документы на руках. Еще очень интересовался, кто навещает больного. Я сказал, что вы.
– Теперь я вам очень признателен. Мой героизм, знаете ли…
– Я сказал, что посещал больного директор заведения, в котором больной проходил курс психотерапии. Интерес естественный, поскольку нынешнее странное состояние потерпевшего может быть связано с тем его расстройством, с которым он обращался к вам. Или, по крайней мере, усугублено им.
– Тогда ладно, беру свои слова назад. Как он выглядел, адвокат этот? Вот послушайте…
И я принялся набрасывать подробный портрет лже-Евтюхова. Некоторое время Никодим внимательно слушал, потом вздохнул с таким разочарованием, что в мембране оглушающе зашелестело.
– Ничего похожего. Довольно молодой парень, челюсть, скулы, плечи… Интеллигентная бородка, искусствоведческая такая. Глаза синие.
М-да. И на Геннадия из «Бандьеры» тоже не похож.
– Ладно, мимо… Что-нибудь еще?
– Да. Он аккуратненько так намекнул, что неплохо бы потерпевшего перевести в больницу получше. Что он даже взял бы это на себя. Я отказал категорически: нетранспортабелен, и шабаш.
– Сильно. А ведь, судя по тому, что я у вас, Никодим Сергеевич, видел, к вам хоть пять, хоть десять человек с автоматами явятся и начнут зачистку палат – никто не заметит.
– Не совсем так. Беззащитных членов семей, которые в неурочное время прорываются родственников навестить, мы гоняем довольно успешно. Особенно когда они без сменной обуви… Вот если террористы со своими тапками придут – тогда все, хана.
Мы с удовольствием посмеялись, потом Никодим спросил:
– Нет, Антон Антонович, вы это серьезно – насчет автоматов? У меня же тут, помимо Сошникова, сорок три человека больных на отделении. И персонал. Если начнется пальба…
– Не думаю, что в нашем случае автоматы актуальны, Никодим Сергеевич. Тут дело, похоже, тонкое. Лобзиком будут пилить.
– Знающие люди говорят, это ещё приятнее…
Вот так мы балагурили, чтобы нехорошие мурашки перестали бегать по коже. Удалось. Постепенно острота ощущений снизилась до степени этак предэкзаменационного мандража – когда два, в общем-то, вполне подготовленных студента, то ли считая мандраж хорошим тоном, то ли чтобы излишней уверенностью своей не гневить и не искушать богов, весело трясутся у входа в аудиторию и зубоскалят напропалую.
Тогда только попрощались.
Получается, отстаю я, причем даже не знаю, на сколько ходов. Вообще ничего пока не знаю. Мяв и когти из мрака. Тоска, кошмар…
Я снова позвонил Кире. И там снова никто не подошел. Кира работает, отец её работает, Глеб гуляет или у приятелей сидит… Все могу понять. Но тещу-то где носит?
Кира работает… Но, коль скоро дома её нет в такое время, то – НЕ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ. По нашему пациенту она работает.
Тоска, господа, тоска.
Но, может, и к лучшему, что никого. О чем теперь говорить-то нам? О работе только – но я сейчас работой сыт по горло. Как выразились бы хак-хаки – оверсайзная она уже какая-то стала, работа эта; а запускать драйв-спэйс нету масти.
Ожидать услышать чего-то вроде: миленький, замечательный мой Антошенька, да как же я люблю-то тебя, родной мой, да как же я по тебе соскучилась – не приходится. С чего бы это Киру так понесло теперь?
Принял решение, совершил несколько поступков, этим решением обусловленных – так и нечего теперь душу рвать себе и ей. Был в Керчи – так молчи.
В Судаке.
Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь на остаток вечера, я попробовал подергать памятью мрачные обугленные четки связанных с Кирой НЕПРИЯТНЫХ воспоминаний. Обидных. Отчуждающих и отторгающих. Как она, прекрасно зная мое культовое отношение к нашей исходной обители, к махусенькому Эдему нашему с коричневыми раздвижными решетками на окнах, которые мы ни разу не сдвигали – хладнокровно и вроде бы даже нарочито замечала: никаких, честно сказать, приятных воспоминаний у меня с этим карцером не связалось, Антон. Тесно, душно. А уж когда Глеб появился – и вовсе невыносимо…
Или как однажды она сорвалась едва ли со злобой: ну нет у меня теперь той беззаветной любви, нет; но я та же, что была!
Интересный ход мысли.
Или…
Но, хоть убей, не вспоминалось плохого. Ощущалось нечто бесформенное и тяжелое, вроде как угрюмый черный бегемот топтал сердце; но конкретно – нет. Как назло, наоборот, заплескалось яркое, солнечное… За одно я мог поручиться: солнечного было больше в трех начальных годах – собственно, ничего иного там и не было; а черное, как на дрожжах, разрослось в течение трех последних лет, став нынче едва ли не основным.
И в одной этой статистике уже был приговор. Мне. Главным образом – мне. К высшей мере. Обжалованию не подлежит.
Ах, Кашинский, Кашинский… Чуешь ли, какое сокровище тебе вот-вот может достаться? Не проворонь, лапша ты этакая!
Когда то ли на излете перестройки, то ли в первый год шоковых примочек – уж не вспомнить точно – Комитет про него забыл, Кашинский поначалу боялся поверить в привалившее счастье. Чтобы именно так, как ему мечталось все эти годы, безо всяких с его стороны усилий и жертв, естественным образом и вследствие внешнего хода вещей, удалось избавиться от унижения, уже казавшегося вечным… Вот так вот само по себе все ползло, расползалось – и доползло до свободы. Сказка! Сердце пело.