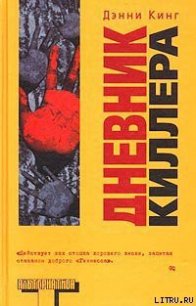Дневник, найденный в ванне - Колесников Олег Эрнестович "Magister" (полная версия книги .TXT) 📗
Я попытался приподняться, хотя бы выпрямиться, но не смог и только повторил: — Что? Что?
— Дело об освобождении от обязанностей…
— Меня?
Он усмехнулся одной лишь левой щекой, правая оставалась грустной.
— Нет, не против вас, лишь против Господа, который в шесть дней… а на седьмой занимался неведомо чем.
— Это шутка?
— Какая там шутка! Мы проверили. Есть тайники в темных туманностях… в головах комет, выщербленных…
— Ах, да. Это мне известно, — пробормотал я, успокоенный. — Господин профессор…
— Что?
— Что такое триплет?
Он обнял меня и стал нашептывать, обдавая алкогольным духом:
— Я тебе объясню. Ты хоть и молодой, но все же принадлежишь Зданию. Почему бы мне тебе не сказать? Скажу, все тебе скажу. Значит, так. Возьмем какого-нибудь человека. Нашего. Ну, так вот: если кто-то является чем-то, то по чему это видно?
— По тому, что видно, — пробормотал я.
— Ну! Вот видишь! Отлично! Так вот, то, что видно, можно подделать. Кто притворяется, что действительно верен Зданию, тот, значит, так: был наш, потом его завербовали, подкупили те, а потом наши его — цап! И обратно заполучили. А перед теми он, чтобы не выдать себя, по-прежнему должен притворяться, что здесь притворяется быть верным Зданию. Ну, а потом те снова его перевербовывают и привлекают на свою сторону, еще раз, и тогда он уже перед нашими притворяется, будто перед теми притворяется, что перед нами притворяется, понял? Вот это и есть триплет.
— Ага, это понятно, — сказал я. — А квадруплет — это, значит, его еще раз…
— Да. Сообразительный ты. Хочешь, я тебя прямо тут завербую?
— Вы?
— Да.
— Вы?.. Господин профессор?
— Ну и что с того, что профессор? Я тоже вербовкой занимаюсь.
— Для этих или для тех?
— А тебе для каких надо?
— Ну, вообще-то… как-то…
— Эх ты! Меня остерегаешься? Продвижение бы тебе… Однако, кто бы мог подумать: размазня — а он, оказывается, ушки держит на макушке!
Он с отцовской лаской тыкал мне в бок. Теперь он выглядел почему-то страшно постаревшим — может, от бессонницы, а может, от чего-то другого?
— Даже щекотки не боишься? — протянул он многозначительно, прищуривая глаз. — Ты парень, что надо! Что такое галактоплексия знаешь?
— А что? Загадка?
— Да. Не знаешь? Это конец света, ха-ха!
"Неужели под влиянием алкоголя чиновники в них берут верх над профессорами?" — мелькнуло у меня в голове, которая жутко, отвратительно болела. Баранн уставил на меня холодные поблескивающие глаза.
Кто-то под столом ущипнул меня за ногу. Из-под скатерти рыжей щеткой вынырнула голова крематора, который неуклюже, но решительно лез ко мне на колени, повторяя:
— Как приятно допрашивать под пыткой старых знакомых! Словно лепесток розы обнюхиваешь, а… Ох, поймать бы сейчас кое-кого…
Я попытался от него избавиться. Он прижался ко мне, обнял за шею, шепча:
— Друг, будь начеку. Брат ты мой родной, я же для тебя все, что хочешь… я для тебя всех, всех сожгу, до последней букашки, скажи только слово… Я тебе…
— Пустите меня! Господин профессор, господин крематор опять целуется, — пожаловался я, слабо сопротивляясь. Он мешком висел на мне, колол в щеку щетиной. Кто-то все-таки оттащил его от меня, он пятился задом, словно рак, показывая мне издали десертную тарелку, которую держал обеими руками.
Тарелка? Что тарелка? Где шла речь о тарелках? — лихорадочно думал я. — Об этом что-то уже было. Где? Великий Боже! Сервировка! Кто говорил «сервировка»? Что значит «сервировка»?
Возникло всеобщее замешательство.
Мне показалось, что нас будто больше ста, но это просто все повскакивали с мест. Посреди комнаты на отодвинутом от стола стуле сидел толстый профессор с мокрым платком на лысине, сотрясаемый сильной икотой, которая в наступившей тишине звучала в унисон с мерзким храпом офицера, лежавшего без сознания в углу.
— Запугать! Застращать! — кричали вокруг.
Влекомый другими, я поднялся. Мы обступили толстого профессора.
Меня покачивало на непослушных ногах.
Толстый бессмысленно смотрел на нас и руками просил помощи, потому что едва он пытался что-либо сказать, как вместо слов раздавались ужасные икания. Выпятив глаза, посинев, он содрогался так, что стул под ним скрипел.
— Доводит до сведения! — прошипел крематор, вслушиваясь в икоту. Затем поднял вверх чистую тарелку. — Слышите?
— Нет!..
Толстый попытался оправдываться, но его протест был подавлен приступом икоты, еще более сильным, чем ранее.
— Э, братец, сигнализируешь! — бросил ему в лицо Баранн.
Толстый судорожно стиснул мою руку.
— Нет!
— Считать, — заорали все.
Приглушенным хором, бормоча, мы принялись считать икания.
— …одиннадцать, двенадцать, тринадцать…
— Предатель! — прошипел в паузе крематор.
Толстый продолжал синеть, приобретая все более темный оттенок. Пот большими, почти с горошину, каплями выступал у него на лысине. Это выглядело так, будто страх, от которого он весь дрожал, выжимал его череп, как лимон.
— …четырнадцать, пятнадцать…
Замирая, с пальцами, переставшими что-либо ощущать, я ждал. Толстый со стоном засунул себе кулак в рот, но еще более сильное, потому что стало теперь под давлением, икота бросила его на спинку стула.
— Шест…
Толстый затрясся, захрипел и какое-то время совсем не дышал. Потом его опухшие веки приподнялись, безмятежность разлилась по искаженному мукой лицу.
— Спасибо, — шепнул он, обращаясь ко всем.
Как ни в чем не бывало, мы возвратились обратно к столу. Я был пьян и знал об этом, но как-то иначе, чем перед этим.
Мои движения стали более свободными. Я теперь мог говорить безо всякого труда, лишь остаток бдительности, до сих пор державшей меня под контролем, куда то пропал, что воспринималось мною с беспечным самозабвением.
Не успел я и оглянуться, как Баранн уже втянул меня в диспут на тему "Здание-Дом и его домовитость". Для начала он спел мне песенку:
— Динь-дом-бом! Дом! Основа Дома — Антидом! Антидома — Дом! Бом!
Потом рассказал несколько анекдотов из области содомистики и гоморрологии. Я уже перестал обращать внимание на тарелку, которой издали посвечивал мне в глаза крематор.
— Знаю! — задорно прокричал я. — Сервировка! Понимаю: подстановка! Понимаю! Ну и что? Кто мне что сделает? Профессор — свой парень! А я вольная птица!
— Птичка ты моя нештатная, — басил, обращаясь ко мне, худой.
Он похлопывал меня по коленке, ласково улыбаясь левой щекой, спрашивал об успехах в шпионстве, о том, как я вообще оказался в Здании. Я рассказал ему начало своей истории.
— Ну, и что там было дальше? — заинтересовался он.
Я болтал уже обо всем подряд, пока еще остерегаясь других, поскольку не был в них совершенно уверен. О священнике Баранн отозвался: "Аббат — он и должен быть провокатором", историю златоглазого старичка лаконично прокомментировал так: "Ну, неправильное поведение было у него в гробу, неуместное. За что и получил".
Я заметил, что Семприак отошел от стола и стал перешептываться с толстым, который из стакана поливал себе лысину.
— Сговариваются? — я указал Баранну на них глазами.
— Глупости! — бросил он. — Ну, а потом? Что тебе сказал доктор?
Он терпеливо выслушал меня до конца, вздохнул, торжественно пожал мою безвольно свисавшую руку и сказал:
— Ты тревожишься, да? Не надо этого делать, ради Бога не надо! Вот посмотри на меня: я сейчас ужасно пьян, пьянюсенький! В трезвом виде я совсем другое дело, но сейчас у меня от тебя тайн нет. Я твой, ты мой. Ты знаешь, с кем имеешь дело? Не знаешь!
— Вы уже говорили. Преподаете всякое там.
— Ну, это же только так, в свободное время. Вообще-то сейчас я откомандирован по трансцендентным делам. Не из-за недостатка скромности, но во имя правды скажу тебе: "Здание — это я". Теперь будь внимателен. Триплет, квадруплет, квинтуплет — это все так, пустяки. Это мелочь. Килька. Фарш с лучком. Одним словом — ерунда. Есть Здание, правда? И есть Антиздание. Оба внутри себя весьма почитаемые. Века так продолжается. Однако все — заметь, все! — перетасовано. Здание целиком, поголовно состоит из вражеских агентов. А Антиздание — все из наших!