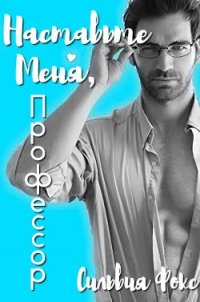Физическая невозможность смерти в сознании живущего. Игры бессмертных (сборник) - Алкин Юрий (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
– Какая разница, кивал или нет, если сейчас он это отрицает?
– Первый, зачем ты кивал?
– Это полка?
– Зачем ты кивал?
– Первый, перестань нас мучить. Что ты пытаешься показать?
Разделившись на две команды, треть населения мира коротала время за нехитрой игрой. Игрок должен был показать своим товарищам фразу или слово, загаданное ему командой противников. Сложность заключалась в том, что слова надо было именно показывать. Первый, откровенно лишенный мимического дара, уже довольно долго запутывал свою команду, рисуя в воздухе какой-то загадочный прямоугольник. В другое время я бы наверняка позабавился: эти бедняги просто сходили с ума, пытаясь разгадать, что показывает их неуклюжий товарищ. Но сейчас мне было не до забав. Рядом, заливаясь смехом, сидела Восьмая. Вдруг она замолчала, как бы прислушиваясь к чему-то, а затем засмеялась опять, но теперь как-то сдержаннее. «Меньше эмоций», – вспомнил я.
Больше всего мне сейчас хотелось узнать правду. Но как это сделать? Я перебирал один способ за другим, но все они казались слишком опасными. Как дать ей понять, кто я такой? И как узнать, кто она такая? Я перебирал разные способы, один изощреннее другого, но ни один из них не был достаточно хорош. Нужен был намек, понятный только ей, нужен был ответ, который не мог дать никто другой.
Тем временем благодаря титаническим усилиям Первого (или, скорее, несмотря на них) противники догадались, что прямоугольник должен был обозначать зеркало. Восьмая повернулась ко мне.
– Еще немного, и они разгадают все предложение. Надо бы подумать над следующей фразой. Есть идеи?
Она вопросительно перевела взгляд на сидевшего слева от меня Четырнадцатого.
– Ваша очередь думать, – отозвался тот. – И так две последние фразы предложил я. Теперь мне пора отдохнуть.
И решение неожиданно пришло само собой. Вспоминая давнюю-давнюю беседу в уютном кафетерии, я выговорил:
– У меня есть одна: «Не поработав, нельзя отдохнуть». Как тебе?
Восьмая посмотрела на меня с улыбкой.
– Неплохо, но, по-моему, слишком легко, – ответила она без малейшей задержки. – Только слово «поработав» будет сложно показать. Но в целом они с этим справятся быстро.
Я перевел дух. Все, это не она. Конец наваждению. И надеждам.
– Слишком просто, – авторитетно подтвердил Четырнадцатый.
«Тебя-то кто спрашивает?» – мысленно огрызнулся я.
– А что вы скажете о таком варианте, – спросила не-Мари, глядя на него. – «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом»?
– По мне, так немного заумно, – донеслось слева, – а впрочем, сойдет. В этих словах что-то есть. Пятый, а ты что думаешь?
Пятый повернулся к Восьмой.
– Мне нравится, – одобрительно хмыкнул он. – В меру сложно и изящно. Я ждал от тебя чего-то подобного. А потом мы еще им загадаем «Аппетит приходит во время еды».
– Нет, – протянул Четырнадцатый, – это будет слишком очевидно. Не стоит.
– Не стоит, – с улыбкой согласилась Восьмая.
Пятый беззаботно пожал плечами.
– Не стоит так не стоит. Действительно, эти фразы слишком связаны одна с другой.
А под маской Пятого с дикими радостными криками метался Андре.
В эти дни я понял, что имел в виду человек, который первым сказал «душа поет». Моя душа не просто пела – она заливалась радостными трелями, позабыв обо всем, что волновало ее совсем недавно. Даже открытие, пришедшее со страниц дневника, не вызывало теперь ни малейшего интереса.
Зрителю больше чем двадцать пять? Нас обманули? Ну и что? У них, может быть, есть практические результаты? И что с того? Мне еще нет тридцати. И неподалеку живет Мари…
Я и сам не подозревал, до какой степени успел влюбиться в нее. Она была здесь. Она была рядом. Она пыталась распознать меня, следовательно, я был ей небезразличен. Стоило мне подумать об этом, как на моем лице расцветала улыбка, непонятная никому из окружающих. К счастью, улыбками без всякого повода удивить здешних обитателей было трудно.
За три дня я повстречался с Мари считаные разы, но ее образ не покидал меня ни на минуту. Порой я не мог понять, вспоминается мне ее прежнее или нынешнее лицо, но даже не пытался разобраться в этом. Мельчайшие детали возникали в памяти и напоминали о ней. Смех, тонкие пальцы на моей руке, задумчивый взгляд, мимолетный поцелуй в коридоре. Я поднимался по утрам с одной-единственной целью – провести как можно больше времени с ней. Если мне не представлялась возможность поговорить с ней, я старался хотя бы слышать ее голос. Если, не вызывая подозрений, нельзя было сделать и этого, прикладывал все усилия, чтобы хоть бы увидеть ее. Теперь мои дневные маршруты всегда увеличивали шансы на нашу встречу; места, которые я занимал, теперь всегда повышали вероятность того, что наши глаза встретятся. Это была томительная и сладкая одержимость.
И в то же время я старался быть предельно осторожным, понимая, что в таком состоянии легко могу навредить не только себе, но и Мари. Достаточно было забыться на минуту, чтобы совершить непоправимую ошибку. Встречая Восьмую, я был Пятым и никем иным. Я не позволял себе улыбаться радостней или беседовать дольше, чем месяц назад. Как в былые времена, я обдумывал каждое слово, контролировал каждое движение, каждый жест. Порой было очень сложно заставить себя оборвать разговор, грозивший затянуться, но приходилось идти на это. Еще сложнее было, кивнув, пройти мимо якобы по своим делам.
Наши разговоры казались мне воплощением двусмысленности. Любой фразой я пытался сказать ей: «Я так скучал по тебе. Ты нужна мне. Я люблю тебя». Но мои средства были скупы, и, несмотря на все усилия, у меня не получалось выразить свои мысли.
– Ты ведь знаешь, что я работаю над книгой?
– Да, Пятый.
– Я не очень доволен тем, что написал в последнее время.
– Почему?
– Мне кажется, я уделяю недостаточно внимания главной героине.
– Ты бы хотел посвятить ей больше страниц?
– Я бы хотел посвятить ей все страницы, но не могу этого сделать. Мне надо уделять внимание другим действующим лицам.
– Я понимаю.
– Ты понимаешь?
– Да, думаю, что хорошо понимаю, о чем ты говоришь.
– Это как бы конфликт личных пристрастий и законов жанра.
– Ничего страшного. Ты справишься.
– Надеюсь. По крайней мере, со временем. Ладно, я пошел. До встречи.
– Увидимся.
И мы расходились, приветливо улыбнувшись друг другу. Вечером, придя к себе, я восстанавливал в памяти наши разговоры. И каждый раз в них обнаруживался новый смысл, возможно даже такой, который Мари вовсе не вкладывала в свои слова.
Временами я задавал себе вопрос: а не вызвана ли эта пламенная влюбленность обстоятельствами, в которых мы находимся? Запретный плод сладок, и сложно вообразить плод, окруженный большими запретами. Возникли бы у меня такие же чувства, не будь мы скованы в своих действиях? Стал бы я так же радоваться одному намеку, если бы нам не нужно было запрятывать в каждую фразу двойной смысл? И не ослабнет ли мое влечение в тот день, когда все препятствия исчезнут?
Но каждый раз я приходил к одному и тому же ответу. Да, своей влюбленностью я немало обязан обстоятельствам. Именно они придали ей полноту и силу, которых, возможно, не было бы в других условиях. Но теперь, когда любовь со мной, я знаю, что она не уйдет вслед за вылепившими ее обстоятельствами. И вновь душа принималась за свое веселое пение.
Однако в эти радостные трели вплетались не самые веселые нотки. Как ни крути, а Мари была для меня абсолютно недоступна. Более того, я не видел ни малейшей надежды на улучшение ситуации.
Об официальном разрешении на роман говорить не приходилось. Связи были строжайше запрещены, равно как и любые проявления сексуальности на людях. Наши одежды были свободны и непроницаемы, наши женщины не знали косметики и завивки. Кокетство и флирт не были ведомы бессмертному обществу. Говорить о сексе было не то что неприлично, а неинтересно. Хотя всем было известно, откуда появляются дети. Просто этому процессу придавалось не больше значения, чем стрижке ногтей. В отличие от нормального человеческого общества, секс в представлении бессмертных не был связан с наслаждением. Все аспекты супружеской жизни оставались личным делом немногочисленных пар. Неудивительно, что на фоне этих негласных запретов бурное развитие искусств порой представлялось мне какой-то гигантской сублимацией.