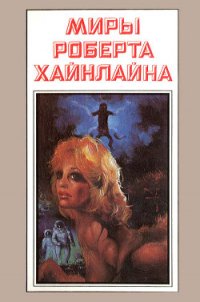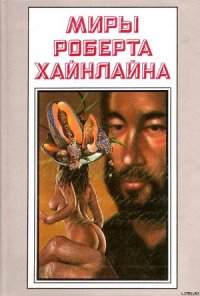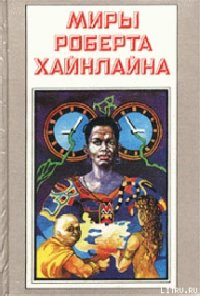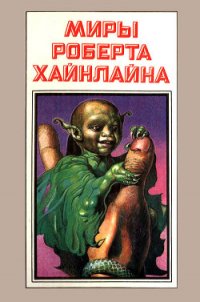Миры Роберта Хайнлайна. Книга 4 - Хайнлайн Роберт Энсон (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений txt) 📗
— Ну, и как тебе все это, отец?
— Отдыхаю. Дьюк фыркнул.
То, что оба имели шрамы после операции аппендицита, показалось врачу не менее интересным, чем съемный мост. Жестами он изобразил боль в животе, а затем большим пальцем указал на местоположение аппендикса. Хью с трудом удалось выразить согласие, так как утвердительное кивание головой, как ему показалось, носило здесь смысл отрицания.
Ассистент вошел снова и вручил врачу предмет, который оказался еще одним мостом. Хью было велено открыть рот, старый мост был извлечен и поставлен новый. Хью ощупал его языком. Ощущение было такое, будто в ротовой полости нет никакого инородного предмета. Врач обследовал, очистил и запломбировал все их пораженные зубы совершенно безболезненно, обходясь при этом, насколько понял Хью, без всякой анестезии.
Затем Хью был внезапно «связан» (опять невидимое поле), укреплен на столе в положении на спине, а ноги его были подняты и разведены в стороны. Подкатили еще один столик, и Хью понял, что его собираются оперировать, а затем с ужасом понял и то, какого рода операция его ожидает.
— Дьюк! Дьюк! Не давай им схватить себя! Попробуй выхватить у него хлыст!
Дьюк колебался слишком долго. В руках у врача хлыста не было — он держал его поблизости. Дьюк рванулся к хлысту, но врач оказался проворнее. Через несколько минут еще не успевший очнуться от настигшей его ошеломляющей боли Дьюк тоже лежал на столе с разведенными ногами.
Оба они продолжали протестовать, насколько это было возможно в их положении. Врач задумчиво посмотрел на них, вызвал конвоира, который сопровождал пленников, и отослал его куда-то. Через некоторое время появился коротышка с большим медальоном. Оценив ситуацию, он вихрем умчался.
Несчастные пребывали в томительном ожидании решения своей участи. Главный врач в это время занялся тем, что заставил своих ассистентов закончить приговления к операции, и теперь ее характер уже не оставлял ни малейших сомнений. Дьюк заметил, что им лучше было бы сегодня утром оказать сопротивление и погибнуть, чем вот так позорно ожидать своей участи здесь, как поросятам. Да они бы и дрались, как подобает мужчинам, напомнил он отцу, если бы тот не струсил.
Хью не стал спорить. Он согласился. Он все пытался убедить себя в том, что его нерешительность была вызвана заботой о женщинах. Но это служило слабым утешением.
По прошествии довольно продолжительного времени коротышка ворвался к ним, донельзя разъяренный. Он выкрикнул какой-то приказ, Хью и Дьюк были тут же освобождены.
На этом все и закончилось, если не считать того, что их успели полностью натереть ароматным кремом.
Пленников одели в длинные рубашки, провели по длинным, пустынным коридорам, и Хью был водворен в камеру. Дверь не запирали, но открыть ее он не мог.
В одном из углов стоял поднос с едой и ложкой. Пища была превосходной, тем не менее он не смог определить, из каких продуктов приготовлены некоторые блюда. Хью ел с аппетитом, выскреб дочиста тарелки и запил все легким пивом. Затем он улегся спать на мягкой подстилке на полу, отрешившись от всех забот.
Разбудили его шаги.
Он был отведен в отдаленное помещение, оказавшееся учебной комнатой. Здесь его поджидали два невысоких человека в белых одеяниях. У них было все необходимое для организации учебного процесса: разновидность классной доски (написанное можно было стирать с нее быстро и бесследно каким-то удивительным способом), терпение и хлыст, поскольку занятия проводились «под неумолчный свист ореховых розог», как выразился поэт. Ни одна ошибка не оставалась незамеченной.
Оба они умели рисовать и прекрасно жестикулировали, объясняя что-либо.
Изучая язык, Хью заметил, что под воздействием боли память у него улучшается: желания повторять ошибку дважды у него не возникало. Сначала его наказывали только за то, что он забывал слова, но со временем можно было заработать удар хлыстом за ошибки в грамматике и произношении.
Такое обучение «по Павлову» — если подсчеты Хью были верны — продолжалось семнадцать дней. Занимаясь только учебой, он за эти дни не видел ни одной живой души, кроме своих учителей. Они занимались им по очереди, Хью же отдавал занятиям по шестнадцать часов в сутки. И хотя выспаться ему не удалось ни разу, на уроках он не дремал — не осмеливался. Ежедневно его мыли и выдавали чистую рубашку, дважды в день его кормили. Пища была обильной и вкусной. Три раза в сутки его под конвоем водили в туалет. Все остальное время Хью учился говорить, каждую минуту опасаясь, что за ничтожную ошибку его опалит жгучая боль.
Со временем он научился предотвращать наказание. Вопрос, заданный достаточно быстро, иногда изрядно выручал его. «Учитель, ничтожный слуга понимает, что есть протокольные разновидности речи для каждого статуса, от вышестоящего к нижестоящему и наоборот, но ничтожный в своем глубоком невежестве никак не может догадаться, что из себя представляет каждый статус, не осмеливаясь даже и предположить, какими путями шел Великий Дядя, создавая оные, и не осознавая даже иной раз, какой из статусов имеет честь употребить почтенный учитель, обращаясь к ничтожному слуге своему во время занятий, и который из них ему, ничтожному, следует осмелиться употребить в ответ. Более того, покорный слуга понятия малейшего не имеет о его собственном статусе в великой семье, если будет угодно милостивому наставнику».
В таких случаях хлыст откладывался в сторону и на протяжении часа ему читали лекцию. Проблемы иерархии волновали Хью гораздо больше, чем можно было заподозрить из его вопроса. Самым низким статусом был статус жеребца. Нет, был еще более низкий — дети слуг. Но, поскольку от детей всегда можно ожидать ошибок, они в счет не шли. Более высокое положение занимала прислуга, затем шли оскопленные слуги — категория слуг, различия внутри которой были настолько незначительными и многочисленными, что в их среде почти всегда употреблялась речь равных, если разница в положении не была слишком уж очевидной.
Над слугами возвышалась каста Избранных, с неограниченными вариациями рангов, связанных подчас с такими ритуальными обстоятельствами, при которых женщина являлась более важной персоной, чем мужчина. Но это-то как раз затруднений не представляло: всегда можно было пользоваться речью нижестоящего. Однако…
— Если двое Избранных заговорят с тобой одновременно, которому из них ты ответишь?
— Младшему, — ответил Хью.
— Почему?
— Поскольку Избранные не ошибаются, ничтожный слуга ослышался: в действительности старший из Избранных не говорил, в противном случае младший никогда бы не осмелился прервать его.
— Правильно. А если ты оскопленный садовник и встречаешь в саду Избранного, ранг которого соответствует рангу твоего Повелителя-Дядюшки, и он спрашивает у тебя: «Малыш, что это за цветок?»…
— Их Милость, несомненно, знает все сущее несравненно лучше, чем ничтожный слуга, но если глаза последнего не лгут ему, то этот цветок, должно быть, лилия.
— Неплохо. Но при ответе еще следует опустить глаза долу. Теперь о твоем статусе… — В голосе наставника звучала неподдельная боль. — У тебя вообще нет статуса.
— Прошу прощения, учитель!
— О Дядя! Как только ни пытался я выяснить это! Никто ничего не мог мне сказать вразумительного. Наверное знает только наш Лорд-Дядюшка, но Их Милость мне повидать не удалось. Во всяком случае, ты не ребенок, не жеребец, не скопец, ты не принадлежишь ни к одной прослойке. Ты просто дикарь, и это ни в какие ворота не лезет.
— Но какой же стиль мне употреблять в речи?
— Всегда только нижестоящего. О, конечно, не по отношению к детям и жеребцам — они этого не заслуживают.
Хью находил, что изучаемый язык очень прост и логичен, за исключением изменений в склонении согласно статусам. В нем не было неправильных глаголов, а порядок слов в предложении был строго определенным. Возможно, такой строй речи имел искусственное происхождение. Ориентируясь по некоторым знакомым словам, таким как «симба», «бвана», «вазир», «этаж», «трек», «онкл», Хью предположил, что корневая база речи восходит к основным языкам африканского континента. Его лингвистический интерес был сугубо абстрактным и, в сущности, уже не имеющим значения: Хью изучал «Язык», и, по словам его учителей, это был единственный язык, который употреблялся во всем мире.