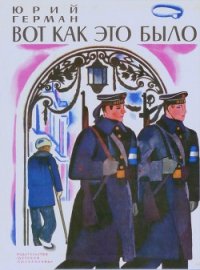Обладатель великой нелепости - Левандовский Борис (читать полностью бесплатно хорошие книги txt) 📗
Старик некоторое время молчал.
– А вы, простите… кто?
– Друг.
– Ах, вот как… друг, – по тону отца Герман наконец понял…
«Все ясно, он считает меня гомиком!»
Если раньше отец только подозревал, то теперь – с этого момента – знал (или вообразил, что знает уже наверняка) о сексуальных предпочтениях своего сына.
Поводом для этих подозрений послужило резкое изменение в поведении Германа в шестнадцать лет после поездки в Ригу (отец, видимо, догадался, что с ним за тот недельный промежуток времени – бесконтрольный промежуток – что-то произошло). Когда он резко прекратил встречаться с девчонками (и всячески уходил от наводящих тем в разговорах) и либо сидел дома, либо проводил время исключительно в мужском обществе, чаще всего с Алексом, или в компаниях одноклассников, а затем – университетских однокурсников.
Сейчас Герман был готов поспорить, что старик уже тогда всячески пытался уловить в его поведении некую жеманность и характерные для «голубых» манеры. Но отец никогда не задавал ему прямых вопросов и не заводил разговоров на тему сексуальных меньшинств, даже не интересовался, как Герман относится к такому явлению вообще. Лишь однажды утром, когда Герман, которому тогда было семнадцать, вернулся домой после ночевки дома у Алекса, родители которого уехали в тот момент на несколько дней куда-то отдохнуть, отец, как бы между прочим, спросил: «Гера, вы с Сашей ничем таким не занимались?» Он тогда подумал, что отец имел в виду, не употребляли ли они спиртное или наркотики, но истинный смысл этого вопроса Герман понял намного позже. Как и тот особенный взгляд отца.
Теперь старик наверняка думал, что упустил нечто важное в прошлом, когда так и не смог понять до конца своего сына. А сейчас полагал, что обнаружил бесспорные доказательства своим давним подозрениям (когда он произнес «Ах, вот как… друг…» – в его интонации прозвучало и какое-то горькое торжество, и обида, а главное – почему это случилось так поздно, слишком поздно, чтобы теперь он мог вмешаться и что-то изменить), наконец-то застукав любовника Германа ночью в его квартире. Убежденный в своей абсолютной правоте, отец даже не учитывал, что Герман действительно мог находиться в отъезде, а человек, с которым он беседует («Я-то тебя сразу раскусил, паршивый педераст!»), на самом деле исповедует стопроцентно гетеросексуальный образ жизни.
Сейчас эта ситуация могла Германа лишь позабавить: его старик искренне считал, что педофилия – это худшее, что может произойти в жизни с его сыном. Герман даже хихикнул мимо трубки.
– И когда же он вернется? – спросил отец потускневшим голосом, в котором отчетливо звучали враждебно-брезгливые интонации: «Что, черт возьми, происходит, почему я вынужден разговаривать с этим ублюдком, предпочитающим использовать задний проход мужской задницы…»
– Точно пока не известно. Это будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства…
– В каком он городе? – перебил старик.
– В… Киеве.
– Герман не оставлял номер тамошнего телефона, чтобы с ним связаться?
– К сожалению, нет.
– Так когда же он все-таки намерен появиться дома?
«Ого! Оказывается, старик способен устроить перекрестный допрос даже по телефону!»
– Может быть, через две или три недели.
– А вы что там у него… спите?
– Не каждый день, раз или два в неделю.
– Так значит, Герман отсутствует уже давно?
– Да, около двух недель, или, скорее, дней девять, – поправился Герман, назвав дату своего отъезда в Погребальное Турне. В какой-то степени это было правдой: Герман – тот Герман – уехал именно тогда. И еще не вернулся.
Что же касалось других дат, относившихся к его возвращению…
– Что ж, ладно, – внезапно более покладисто произнес отец, – недели через две я обязательно перезвоню, – он особо подчеркнул «обязательно».
Герман кивнул, словно старик мог его видеть, и посмотрел себе под ноги, где на полу за время их беседы образовалась лужица свежей крови. Она скапывала из разкуроченной шеи оторванной собачьей головы, которую Герман держал во время всего разговора правой рукой за одно ухо. Второе свисало вниз вдоль морды, покрытой свалявшейся рыжевато-коричневой шерстью; на лбу темнело похожее на кляксу пятно черного окраса. Приоткрытая пасть обнажала желтые зубы и пару сточенных нижних клыков; между ними вывалился, покачиваясь в такт движениям Германа, длинный грязно-розовый язык, на котором тускло поблескивала еще не высохшая слюна, смешанная с остатками последнего ужина собаки. По краям пасти упругими сосульками подрагивала кровавая пена. Открытые глаза, уже начавшие затягиваться мутной пленкой, напоминающей катаракту, грустно созерцали окружающее пространство.
– Если Герман вернется раньше, передайте, что звонил отец. Ну, пока… друг, – не дожидаясь, когда ему ответят, старик положил трубку.
Заныли гудки.
– Пока-пока… – сказал Герман в пустоту, кладя трубку телефона на рычаги.
Затем поднял голову дворняги на уровень своих глаз и посмотрел в ее быстро мутнеющие зрачки-пуговицы.
– Ты слышал? Он считает меня педиком! – Собачья голова неопределенно покачивалась, будто взвешивая каждое слово. – Нет, он дейст…
В этот момент невидимая могучая рука швырнула Германа на пол.
Голова собаки с грохотом свалилась на паркет и как бильярдный шар покатилась по гостиной, отчего во все стороны полетели кровавые плевки, пока, наконец, не уткнулась в портрет маленького Геры.
Герман бился в конвульсиях, сжав бесчувственными ладонями виски.
Начался третий приступ…
Глава 7
Лозинский
Вечером во вторник 28 сентября Лозинский вошел в свою квартиру и хлопнул дверью так, что на пол посыпалась штукатурка. Настроение было препаскуднейшим, как никогда за все годы, что он работал в городской больнице № Х.
Не снимая обуви, врач прошел в единственную комнату; по паркету потянулись мокрые грязные следы. На улице уже неделю бушевала непогода, мрачные низкие тучи нависали надо Львовом, словно притягиваемые волшебным магнитом со всех концов земли.
Лозинский остановился посреди комнаты, одной рукой нервно теребя щетинистый подбородок, другой – все еще сжимая капающий на пол сложенный зонт. Наконец он заметил, что продолжает держать скомканный мокрый зонт, и с силой зашвырнул его в коридор. Немного отлегло на душе, когда зонт глухо врезался в вешалку и полетел вниз, сбивая с крючков дешевый пластиковый набор обувных ложек, сыпанувших на пол с каким-то неистовым рвением.
Да, теперь стало немного лучше…
Лозинский присел на край дивана с неубранной постелью и медленно начал разуваться. По дороге из больницы он пару раз оступался в глубокие лужи, носки выглядели теперь так, будто на них вообще не надевалось обуви.
Лозинский мрачно выругался, сменил носки, наскоро ополоснув ноги под краном в ванной, и отнес раскисшие ботинки сушиться на отопительную батарею, с сожалением думая, что старым ботинкам, к которым он привык за последние восемь лет, вскоре придется подать в отставку. А жаль, эти офицерские ботинки – паршивая, но такая родная казенщина – были получены им еще на службе, всего за полгода до того, как комиссариат списал его по «состоянию здоровья» статья такая-то пункт такой-то.
Те самые полгода из пятнадцати лет службы военным хирургом.
Жаль, хорошие были ботинки…
Лозинский был высоким сорокапятилетним мужчиной, рано поседевшим и осунувшимся, с худым смуглым лицом, которое бороздили глубокие каналы морщин, отчего он лет на десять-пятнадцать выглядел старше. Над правой бровью светлой нитью тянулся длинный бледно-розовый шрам, как «памятник» шести годам проведенным полевым хирургом в стране, где среди знойных гор и ущелий бродят сердитые бородатые люди с оружием, говорящие на чужом гортанном языке – годам, о которых он часто вспоминал с ужасом и болью… но в то же время с какой-то ностальгической печалью. «Памятников» о том времени у него немало сохранилось и под рубашкой. Еще больше – там, где никому не дано увидеть глазами.