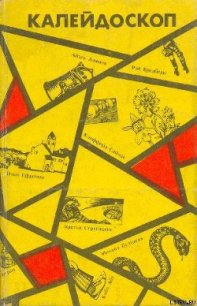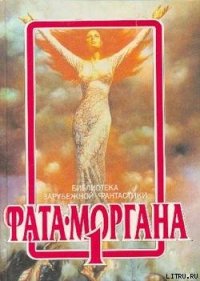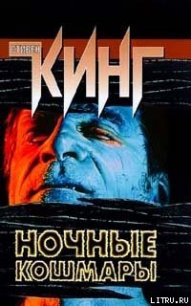Пасьянс гиперборейцев(Фантастические повести и рассказы) - Ткаченко Игорь (читать книги онлайн txt) 📗
Римские когорты, сломав строй, медленно поднимались по крутому, скользкому после дождя склону. Воины часто падали, но поднимались и упрямо карабкались вверх, помогая себе копьями. Ближе, ближе, еще ближе, громче грохот барабанов и низкий рев боевых труб, уже можно различить лица, грязные и злые. Когда они поднялись до середины склона, наш предводитель взмахнул рукой, и вниз покатились горящие бочки, набитые соломой.
Но этих там, внизу, уже нельзя было остановить. Можно было, пока не покатились горящие бочки, а сейчас уже нет, они уже прошли через страх и хотят мстить, видеть наш страх.
Они дойдут до вершины и начнется что-то ужасное. Ну а я-то здесь при чем?!
— По-моему, мы удираем, — сказал Сашка, когда мы скатились по глинистому склону.
— Мы разведчики, — возразил я. — Мы только посмотрим, нет ли опасности с тыла. Если трусишь, можешь вернуться.
Он не ответил, коротко хмыкнул и отвернулся.
А у подножия нас быстро и без труда обезоружила засада римлян. Дылды-восьмиклассники, они скрутили нам руки и связали. Я с облегчением освободился от меча. Попали в плен, ничего не поделаешь, игра есть игра.
Они отвели нас в лагерь римлян. Там стояла палатка с флажками на высоких шестах и горел костер. Несколько девчонок, задрапированных в простыни на манер патрицианок, смехом и криками встретили наше появление.
— Я бросаю к вашим ногам презренных пленников, прекрасные дамы, — смешливо шепелявя, объявил конопатый римлянин, один из тех, кто выскочил из засады. — На колени, рабы!
— Так не говорили, — поправил Сашка. — Ты путаешь эпохи.
— Молчи, презренный! На колени!
— Еще чего.
— Перетолчешься, — добавил я.
— А пленники-то с норовом, — сказала девчонка в красной куртке, которой, похоже, не хватило простыни. — А они не кусаются?
Она подошла ко мне и попыталась потрепать по щеке. Я дернулся и свирепо зарычал. Римляне захохотали.
— Совсем дикие! — восхитилась девчонка. — Фракийцы какие-нибудь. Слушайте! А, может быть, они разведчики? Кто у вас главный, признавайтесь!
Сашка шагнул вперед:
— Я главный, — и криво усмехнулся, глянув в мою сторону.
— Он врет! — крикнул я. — Я главный!
— Ах, какая прелесть! — защебетали девчонки. — Ну просто сцена из «Спартака»!
— Для прекрасных дам мы устроим сцену из «Спартака», — обрадовался конопатый. — Эти двое будут гладиаторами, они сейчас будут драться.
— Не будем мы драться, — нагнул голову Сашка.
— А мы заставим.
Нам развязали руки и вернули мечи. Дылды-римляне встали вокруг.
— Деритесь! Ну, ребята, давайте хором: трусы, трусы, ТРУСЫ!
— Деритесь!
— Из-за тебя все, — прошипел Сашка. — Разведчики… Думаешь, я не знаю… Не будем мы драться!
— Всем расскажем, какие вы трусы. С поля боя сбежали и в плен сдались. На стенах напишем, пусть все знают. Деритесь!
Стойте! Они не будут драться, — объявила вдруг девчонка в красной курточке. — Им нельзя драться! Закон крови, вот. У них мамы разные, а папа один. А может, и не так, в общем, у их родителей этот… поли… полигамный брак. Вот его отец, — она ткнула у меня пальцем, — живет с одной, а деньги отдает другой, верно? Это будет не битва гладиаторов, а семейная ссора.
— Заткнись! — закричал Сашка. — Тебе-то какое дело?!
Ее слова не сразу дошли до моего сознания. Я не знал, что такое полигамный брак, но я понял одно — они все знают! Эта девчонка, которую я и вижу-то впервые, она все знает. Знает про отца и Фатьянову, про то, что отец собирается уходить от нас. И другие тоже это знают. И не будет никогда по-старому, никогда не забудется, не зарастет рана, будет болеть и жечь, мне будут тыкать в лицо: «Ах, это тот, от которого ушел отец…» А он уйдет, может быть, даже к Фатьяновой, и тогда Сашка будет называть его отцом и ходить с ним на рыбалку, сидеть у него на ногах, когда отец будет доставать ракушек, выбирать место для рыбалки…
— Чилим несчастный! — заорал я. — Ты у меня сейчас будешь драться!
Девчонки у палатки восторженно завизжали.
Поздно, но я понял: мне есть за что драться. И я дрался. Я схватил меч обеими руками и бил наотмашь, как дубиной. Не бояться, не молчать и ждать, втянув по-птичьи голову в плечи, не прощать — бить наотмашь, зубами рвать, защищающийся слаб, а, значит, виноват, и не будет ничего больше, бессилие отца и фальшивый смех матери.
Я бил все фальшивое и ложное, кажущееся красивым, потому что красиво раскрашено; морочащее голову, заставляющее отца лгать мне. Передо мной был враг, вор, захотевший отобрать все сразу. Такого нельзя прощать.
Я ослеп, но это была особая, нужная слепота — не видеть ничего, кроме зажмуренных от мучительной близости глаз отца, рук Фатьяновой у него на шее, тонких, цепких, с хищными ногтями. Красные губы ее, жадно высасывающие чилима, заставляющие отца быть слабым и трусливым…
— За отца, за рыбалку, за жемчужинку…
Меня оттащили, я вырывался, я дрался за свое со всем миром. Меня встряхнули или ударили, и я очнулся.
…Испуганное лицо конопатого, девчонка в красной курточке крутит пальцем у виска, Сашка поднимается с земли, размазывает по лицу что-то темное, грязь или кровь.
— Дурак! Дурак психованный! — кричит он. — Я-то причем?! Предатель!
Я шел домой, но не дошел, рухнул в траву, вжимался, корчился, силясь исторгнуть горячий вязкий комок, освободиться слезами, но слез не было, и я давился мычанием от бессилия все исправить и переделать.
Не знаю, сколько я так пролежал, час или вечность. Наплыл с моря молочный туман, окутал все вокруг густой пеленой, сгладил звуки и краски. Одежда моя промокла, я дрожал от холода, но меньше всего мне хотелось оказаться дома. Откуда-то из невообразимого далека донесся вдруг приглушенный туманом знакомый звук — приближающийся стук копыт. Прошло совсем немного времени, и вот уже можно различить смутные фигуры всадников, устало покачивающихся в седлах. Храпят кони, развеваются плащи, тускло блестят доспехи. Молчаливые и таинственные, они проехали мимо, едва меня не коснувшись, и когда за последним сомкнулся занавес тумана, я опомнился и побежал следом. Я бежал изо всех сил, не разбирая дороги. Только бы догнать их! Я опоздал: последний всадник въезжал в ворота замка, я рванулся, в два прыжка преодолел подъемный мост и… руки уперлись в окованные железом уже запертые ворота.
За этими запертыми для меня воротами был чудный мир, сложенный из ожидания, поисков и находок, там были надежды и сбывшиеся мечты, удачи и счастье.
Вот только меня не было там.
Замок вдруг покачнулся, задрожали стены и башни и рассыпалось беззвучно все прахом. Нет ворот, некуда ломиться; нет чуда, нечего хотеть; нет веры, не на что надеяться.
Обыденно все стало и серо.
На две смены меня отправили в пионерский лагерь, я загорел и здорово вырос, а когда вернулся домой, отца уже не было, он уехал в Кишинев, где жили дед с бабкой. Каждый месяц мать получала от него алименты, а на день рождения он прислал телеграмму на красивом бланке: медвежонок сидит перед бочонком меда, а зайцы бьют в барабаны. Телеграмму я выбросил.
В школе я пересел от Сашки на первую парту, чтобы не видеть свежего шрама у него на щеке, но иногда оборачиваясь, наталкивался на его взгляд из-под пушистых, как у Фатьяновой, ресниц, и к горлу, как тогда, подкатывал горячий комок.
А потом Фатьяновы уехали. Не в Кишинев, куда-то в другой город.
«Комета» сбавила ход, опустилась на воду, по широкой дуге мимо скалы, похожей издали на пограничника в плащ-палатке, завода со скопищем судов у причальной стенки, подошла к причалу.
Он вышел сразу за мной.
— Узнаешь?
— Сашка, — сказал я. — Фатьянов.
Пока мы шли вдоль берега к поселку, он рассказывал, что теперь работает здесь рыбнадзором, гоняет браконьеров на Корабельных островах. Узнав, что я приехал на месяц, он предложил сходить вместе на рыбалку, у него лодка с мотором. Я согласился.