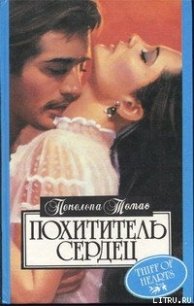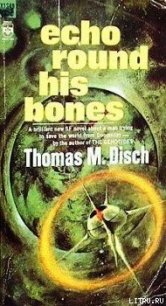334 - Диш Томас Майкл (читаем книги онлайн бесплатно txt) 📗
5
В ноябре в хирургическом отделении “Горы Синай” Бозу сделали операцию — и Милли, естественно, тоже, поскольку донором должна была выступить она. Предварительно ему имплантировали ряд “пустышек” увеличивающегося размера, чтобы подготовить кожу груди к новым железам, которые будут там жить, — и морально подготовить самого Боза к его новому состоянию. Одновременно специальным курсом гормонотерапии в теле его был установлен новый химический баланс, чтобы включить грудные железы в общий метаболизм, дабы те с ходу начали вырабатывать питательное молоко.
Чтобы материнство (как часто объяснял Макгонагалл) приобрело значение опыта поистине освобождающего, подходить к тому следовало со всей душой. Оно должно было войти в плоть и кровь и в нервную ткань; не оставаться только процессом, или привычкой, или социальной ролью.
Первый месяц кризис идентификации случался ежечасно. Секунды перед зеркалом было достаточно, чтобы от смеха с Бозом случился натуральный, до колик, нервный припадок, — или ввергнуть его в многочасовую депрессию. Дважды, вернувшись с работы, Милли подумывала было, что супруг сломался-таки под непосильным бременем, но оба раза нежность ее и терпение перебарывали, и кризис благополучно миновал. По утрам они отправлялись в клинику поглядеть на Горошинку; та плавала в своей бутыли коричневого стекла, хорошенькая, как водяная лилия. Она уже полностью сформировалась — настоящее человеческое существо, ну прямо как отец и мама. В эти мгновения Боз не понимал, чего вообще он так терзается. Если кому и полагалось не находить себе места, так это Милли — но вот она стоит себе совершенно спокойно, без пяти минут родитель, живот плоский, трубки жидкого силикона вместо грудей, а собственно опыт материнства клиникой и родным мужем отнят. Тем не менее, она, казалось, только благоговела перед этой новой жизнью, совместным их творением. Можно было подумать, будто отец Горошинки Милли, а не Боз, и рождение — таинство, которым она должна восхищаться на расстоянии, но которого никогда всецело, сокровенно не разделит.
Потом, точно по расписанию, в семь часов вечера 24 декабря Горошинку (к которой имя это приклеилось на веки вечные, ибо ничего другого они так и не придумали) выпустили из коричневой стеклянной утробы, перевернули вверх тормашками, похлопали по спинке. Со здоровым громогласным ревом (запись которого воспроизводилась впоследствии на каждом ее дне рожденья, вплоть до двадцати одного года, когда она взбунтовалась и швырнула пленку в мусоросжигатель) Горошинка Хансон пополнила ряды человечества.
Что явилось полной неожиданностью, дивной неожиданностью, так это насколько он будет занят. До настоящего времени все его заботы ограничивались тем, чтобы найти, чем занять пустые дневные часы, но в первых экстатических восторгах нового бескорыстия времени хватало едва ли на половину всего, с чем необходимо управиться. И дело было не только в том, чтобы удовлетворять запросы Горошинки — которые и поначалу-то были весьма многочисленны, а по ходу дела разрослись до пропорций воистину эпических. Но с рождением дочери он обратился к эклектичной, новомодной форме борьбы за экологию. Он опять стал по-настоящему готовить, и на этот раз счета от бакалейщика астрономически не подскакивали. Он занялся изучением йоги под чутким руководством молодого симпатичного йога на Третьем канале. (Естественно, при новом-то распорядке, времени на фильмы по искусству в четыре часа дня уже не хватало.) Потребление коффе он снизил до единственной чашки за завтраком с Милли.
Более того, он не давал усердию заглохнуть — неделю за неделей, месяц за месяцем. Пусть скромнее, пусть с видоизменениями, но ни разу он целиком и полностью не отрешался от образа — если не всегда реальности — лучшей, более насыщенной, плодотворной и ответственной жизни.
Горошинка тем временем росла. За два месяца она удвоила свой вес — от шести фунтов двух унций до двенадцати фунтов четырех унций. Она улыбалась лицам и освоила целый репертуар курьезных звуков. Она ела — для начала в час по чайной ложке — банановую смесь, грушевую смесь и каши. В самом нежном возрасте она уже опробовала все овощные наполнители, какие Боз только мог найти. Это было лишь начало длинной и разнообразной карьеры потребителя.
Как-то в начале мая, после зябкой дождливой весны, температура внезапно подскочила до 70 градусов. Морской ветер отполоскал традиционное пасмурное серое небо до светло-голубого.
Боз решил, что настал момент для первой вылазки Горошинки в Неведомое. Он отворил балконную дверь и выкатил колыбельку наружу.
Горошинка проснулась. Глаза у нее были светло-карие с крошечными золотистыми искорками. Кожа ее была розовая, как суп из креветок. Она весело качнула колыбельку. Между пальчиков ее струился весенний воздух, и Боз, которому передалось воодушевление, принялся напевать странную дурацкую песенку; он помнил, как его сестра Лотти пела ту Ампаро, а Лотти говорила, что слышала, как мама пела ее Бозу:
Ветерок взъерошил темные шелковистые волосы Горошинки, тронул тяжелые каштановые кудри Боза. Солнце и воздух были все равно что в кино столетней давности, чистые до невероятия. Боз только глаза закрыл и занялся дыхательными упражнениями.
В два часа, пунктуальная, словно выпуск новостей, Горошинка подала голос. Боз достал ее из колыбельки и дал ей грудь. Последнее время, кроме как когда выходил на улицу, одеваться ему было лень. Маленькие губки сомкнулись вокруг соска, маленькие ручки оттянули назад мягкую плоть. Боз ощутил привычное сладостное подрагивание, но на этот раз оно не сошло на нет, когда Горошинка вышла на рабочий ритм: отсосать, сглотнуть, отсосать, сглотнуть. Ощущение распространилось по всей поверхности груди и ушло вглубь; расцвело в самом средоточии его существа. Сладостное подрагивание волной докатило до чресел и покатилось дальше, по мышцам ног и вниз. На мгновение ему представилось, будто кормление придется прервать, — настолько беспредельным стало ощущение, ошеломительным, выше человеческих сил.
Вечером он попытался объяснить происшедшее Милли, но та проявила вежливый интерес, и только. Неделей раньше ее избрали на ответственный пост в профсоюзе, и голова у нее до сих пор полнилась мрачноватым удовлетворением от сознания реализованных амбиций, от того, что нога утверждена на первой ступеньке лестницы. Он решил, что не стоит, пожалуй, распинаться дальше и лучше приберечь откровения до следующего Крошкиного визита.
У Крошки за подотчетный период детей родилось трое (регент-балл ее был настолько высок, что все три беременности субсидировались Советом национального генофонда), но чувство эмоциональной самозащиты каждый раз удерживало Крошку от того, чтобы совсем уж категорически замыкаться на дитё в течение годовой нормы материнства (после чего дитё отсылалось в эсэнгэшный интернат в Юту или Вайоминг). Она уверила Боза, будто в том, что он испытал днем на балконе, ничего экстраординарного нет, будто с ней самой такое происходило сплошь и рядом, — но Боз-то знал, что в этом самая что ни на есть квинтэссенция необычности. Это, говоря словами Властителя Кришны, высочайший опыт, мимолетный взгляд по ту сторону завесы.
В конце концов он осознал, что мгновение это принадлежит одному ему; что миг этот ни с кем не разделишь и не повторишь.
Мгновение так больше и не повторилось, даже приблизительно. В конце концов он сумел забыть, что это такое было, и помнил только, как когда-то о нем вспоминал.
Через несколько лет Боз и Милли сидели у себя на балконе и наблюдали закат.
После рождения Горошинки ни он, ни она радикально не изменились. Может, Боз сравнительно потяжелел, но трудно сказать, это потому, что он набрал вес или что Милли сбросила. Милли дослужилась уже до методиста и, плюс к тому, имела посты в трех различных комитетах.