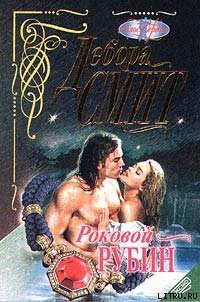Кровавый рубин (Фантастика. Ужасы. Мистика. Том I) - Фоменко Михаил (читаем книги бесплатно .txt) 📗
Донна Анна подняла прозрачный палец, украшенный рубинами.
Палец дотронулся до груди леди Клэр в том месте, где билось ее сердце и, точно огненный, вонзился в нее.
Проснувшись, лорд Эдвард Клэр нашел Джорджину холодной, как лед. Она умерла, пока он спал.
— Разрыв сердца, — определили доктора.

Рихард Фосс
МЕРТВАЯ СОПЕРНИЦА
Следует ли мне писать предисловие к этому рассказу?
Нахожу, что нет, так как сам по себе он и есть предисловие.
Он вводит нас в тот таинственный, неразгаданный нами мир, о котором мы ничего не знаем — «ничего не можем знать».
Если же кому-нибудь из нас все-таки удалось бы приоткрыть эти мрачные двери, если б удалось уловить момент, когда темная, таинственная завеса чуть-чуть приподнимется и молния откровения на мгновение осветит непроглядную тьму, тогда поскорее закройте глаза, отступите в ужасе, отвернитесь от страшного зрелища…
Я лично тоже хотел отвернуться, но не смог и успел заглянуть в мир мертвецов, привидений и ужасов…
Сделал я это, однако, не безнаказанно, и этим я приобрел себе право посоветовать, предостеречь: не пытайтесь проникнуть в тот таинственный мир, отойдите, бегите!
Что касается медиума, названного мной в этом моем рассказе Ассунтой де Марчис, то считаю нелишним упомянуть, что с этим именно, медиумом у меня связан ряд воспоминаний о происшествиях, крайне необыкновенных, сверхъестественных, невероятных. То, что я пережил, нужно именно «пережить», поверить, а потому я и не удивлюсь и пойму, если мне ответят: «Я этому не верю», разве только на будущее время не осмелюсь поднести моим уважаемым, милым, не верящим мне читателям вторую, а тем паче третью «страшную историю».
Рихард Фосс.
Замок Лабер, близ Мерана, весной 1908 г.
Случилось это в очень далекие времена, в Риме, — где я часто и охотно посещал местную скандинавскую колонию. Познакомился я и с Ибсеном, подружился и со Стефаном Синдингом [10], но особенно привлек меня молодой блондин-датчанин. Звали его Гаральдом. Он был сыном гениальной матери, гениального отца, да и сам он был художником и музыкантом; но все это духовное наследие родителей легло на него каким-то проклятием.
Чувствительность и нервность его доходили до чего-то патологического; скажу более: во всю свою жизнь он ни на один день не был вполне здоров. С сурового севера он отправился на юг, ища там облегчения, только облегчения, а не исцеления, так как на него он не надеялся.
Вспоминая о нем теперь, через много, много лет, я не могу не признаться, что он был одной из милейших личностей, когда-либо встречавшихся мне.
Да и сама внешность его была в высшей степени привлекательна: высокий, стройный, словно молодая береза, береза его далекой северной родины.
Все на нем было светло: и волосы, и лицо, и глаза, и душа…
Особенно хороши были его глаза: большие, ясные, мечтательные глаза художника, а душа у него была детская, еще не тронутая людской пошлостью, но изведавшая и страданий, и печали, и горя. Над всей этой светлой личностью носился какой-то таинственный, необъяснимый призрак тоски и меланхолии. Видно было, что он пережил что-то тяжелое, что-то такое, что не забывается во всю жизнь; что-то, от чего захворала его душа, и захворала неизлечимо. Весь он производил впечатление прислушивающегося к мелодиям каких-то незримых хоров внутри себя. Нельзя было не любить его… Женщины не могли не любить его, а между тем, казалось, он их и знать-то не хотел.
Слушать его игру я мог, не отрываясь, часами; его музыка — была его речь; его музыка была воплощением его самого. Даже руки его были самыми необыкновенными руками из всех виденных мною артистических рук: стройные, нервные, страдальческие, бледные — они производили впечатление бескровных. На безымянном пальце правой руки он носил тоненькое золотое кольцо с огромным, великолепным рубином, красневшим на его бледной руке, словно капля крови.
Гаральд был в Риме впервые, и, казалось, красоты Рима его совершенно опьянили. Все было чудно, великолепно: и маститая, величественная красота этого города, и солнце его, и небо Рима, и цветы его, и любезность и привлекательность его жителей, жизнерадостность и свободная простота римских художников, словом — все восхищало его. Восхищало бы, быть может, и более, не носи он в сердце своем неутомимую печаль, печаль, составлявшую тайну для всех, даже для меня, человека, с которым он был почти неразлучен.
Обратил я внимание и еще на одну странность: при моих посещениях я постоянно находил у него в чудной венецианской граненой вазе — ветку дивных белых роз. Этот бледный цветок как нельзя более подходил к мистической музыке, к бледным, прозрачным рукам Гаральда, к его таинственной печали. Это был, именно, — его цветок. «Вечный город» в то время уже не был «папским» Римом, но в то же время не успел еще сделаться модным, так называемым «Roma nuova». В то время между Тибром и Монте Марио тянулись зеленые луга, на которых римляне справляли свои сельские праздники; в то время на амфитеатре Колизея еще росли кусты диких роз и иных цветов, да, наконец, на меня лично в те далекие времена днем напали разбойники, и я только случайно не был сброшен ими в пропасть с «золотого дома Нерона». Невзирая на все это, Рим уже не был городом св. Петра; царствовавшая здесь две тысячи лет католическая церковь склонила свою победную голову, и даже поговаривали: «Святой отец в Ватикане не что иное, как узник».
Сильнее, нежели красота и солнце Рима, на впечатлительную натуру Гаральда действовало мрачное великолепие побежденной римской церкви. Он не пропускал почтя ни одного церковного празднества, ни одной мессы, ни одного богослужения. Он обладал поразительными познаниями по части разных святынь, водился со священниками и монахами, страстно интересовался катакомбами, бежал толпы и веселья и проводил все свои досуги в стариннейших базиликах — особенно св. Климента и св. Лоренцо. Все это вместе взятое еще более мрачно настраивало его предрасположенную к мистицизму натуру. Говоря откровенно, я был сильно озабочен судьбой Гаральда.
Как раз в это время в Риме заметно стало сильное увлечение спиритизмом, в особенности же среди интеллигенции было много убежденных спиритов. Во главе этого «движения» стоял знаменитый художник. В его отделанной с изысканной роскошью и вкусом загородной вилле близ Перта Пиа происходили сеансы, о которых вскоре заговорил весь Рим. Сеансы эти в вилле С. вскоре сделались научными… Помнится, я впервые услышал благозвучное имя Ассунты де Марчис именно из уст друга моего, Гаральда. Меня тогда же, помнится, поразила сама его манера произносить это имя — произносил он его, словно строфу песни, к которой он сам придумал мотив, с какой-то слишком уж мечтательной, мягкой, зачарованной полуулыбкой. И улыбка эта, и мечтательное выражение появлялись у него всегда, лишь только он заговаривал об Ассунте де Марчис.
— Она страшное существо… я никогда не допускал и мысли, что такие существа водятся на свете… я был очевидцем таких вещей… таких!.. Бедный мой земляк, Гамлет, был тысячу раз прав, говоря, что между небом и землей есть вещи, которых не может постигнуть человеческий ум… да он и не должен постигать, он должен только верить…
— Должен?..
— Ты спрашиваешь меня, словно Фауст Маргариту. Говорю тебе: ты должен верить! Если бы ты хоть раз решился присутствовать на одном сеансе, то ты понял бы меня.
Я ответил ему, что и без этого понимаю его, что эти вещи, к сожалению, свойственны его натуре. Сказал я ему и то, что я, к ужасу своему, заметил, что весь этот вздор нашел в нем благодарную почву, утверждал, что виноват во всем Рим, в котором он, вместо желанного исцеления, нашел свою гибель.
Закончил я свою тираду восклицанием: