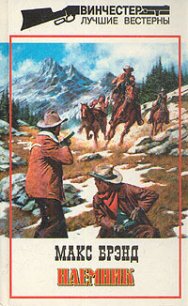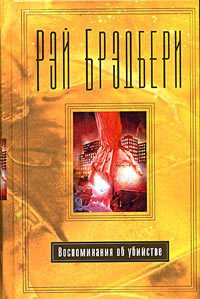Улыбка (изд.1993) - Брэдбери Рэй Дуглас (читаем книги TXT) 📗
Поезд тронулся. Жена исчезла.
Я ехал в Прошлое.
На вторую ночь, проезжая через Канзас, мы попали в потрясающую грозу. Я не ложился до четырех утра, слушал, как беснуются громы и ветры. Когда стихии разбушевались дальше некуда, я увидел свое лицо, негатив его, на холодном стекле окна и подумал: «Куда едет этот дурак?»
Убивать Ральфа Андерхилла.
За что? А за то!
Помнишь, как он бил меня? До синяков. Обе руки были в синяках от самого плеча; в синих синяках, черных в крапинку, каких-то странных желтых. Ударит и убежит, таков он был, этот Ральф, ударит и убежит…
И, однако, ты любил его?
Да, как мальчики любят мальчиков, когда мальчикам восемь, десять, двенадцать и мир невинен, а мальчики злее злого, ибо не ведают, что творят, но творят все равно. И, видно, где-то в потаенных глубинах души мне было обязательно нужно, чтобы мне причиняли боль. Мы, закадычные друзья, нуждались друг в друге. Ему нужно было бить. Мне — быть битым. Мои шрамы были эмблемой нашей любви.
За что еще хочешь ты убить Ральфа через столько лет? Резко закричал паровозный гудок. Ночная страна бежала мимо.
И я вспомнил, как однажды весной пришел в школу в новом костюме-гольф из твида, и Ральф сбил меня с ног и вывалял в буром месиве грязи и снега. И смеялся, а я, готовый провалиться сквозь землю, перепачканный с головы до ног, напуганный предстоящей взбучкой, побрел домой переодеться в сухое.
Вот так! А еще что?
Помнишь глиняные фигурки персонажей из радиопьесы о Тарзане, которые тебе так хотелось иметь? Тарзан, обезьяна Кала, лев Нума — любая фигурка стоила всего двадцать пять центов! Да-да! Они были неописуемо прекрасны! О, вспомнить только, как где-то вдалеке, путешествуя по деревьям в зеленых джунглях, завывал обезьяночеловек! Но у кого в самый разгар Большой Депрессии нашлось бы двадцать пять центов? Ни у кого.
Кроме Ральфа Андерхилла.
И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты получить одну из этих фигурок.
«Хочу ли! — воскликнул ты. — Ну, конечно, конечно!»
Это было в ту самую неделю, когда твой брат в странном приступе любви, смешанной с презрением, отдал тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку.
«Ну что ж, — сказал Ральф, — я дам тебе лишнюю фигурку Тарзана, если ты дашь мне бейсбольную перчатку».
«Ну и дурак же ты, — сказал я себе. — Фигурка стоит двадцать пять центов. Перчатка — целых два доллара! Это нечестный обмен! Не меняйся!»
Но все равно я помчался с перчаткой назад к Ральфу и отдал ему, а он, улыбаясь еще презрительней, чем мой брат, протянул мне глиняного Тарзана, и я, преисполненный радостью, побежал домой.
Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного Тарзана только через две недели и, когда узнал, бросил меня одного за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку, — бросил за то, что я такой остолоп. «Фигурки Тарзана ему понадобились, бейсбольные перчатки! — бушевал он. — Больше ты не получишь от меня ничего, никогда!»
И где-то на сельской дороге я упал на землю и разрыдался: мне хотелось умереть.
Снова забормотал гром.
На холодные окна пульмана падал дождь.
Что еще? Или список закончен?
Нет. Еще одно, последнее, страшней всего остального.
За все те годы, когда в шесть утра Четвертого Июля ты прибегал к дому Ральфа бросить горсть камешков в его окно, покрытое каплями росы, или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станции смотреть, как прибывает на рассвете цирк, за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому.
Ни разу он или кто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато от брошенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков.
И ты твердо знал, что в день, когда перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится.
Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер и никто не пришел к тебе на похороны.
Вы с Ральфом виделись в школе — и ни удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотело снять с твоего пиджака его любопытство. Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить! Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было щипать!
Сложи все эти грехи вместе. Но особенно задумайся над тем, последним: он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели, не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия 9, вызывая меня на улицу, в радость летнего дня.
И вот за это, Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в четыре часа утра, когда гроза стихла, а у меня выступили слезы, за эту каплю, переполнившую чашу, я завтра вечером тебя уничтожу.
«Убью, — подумал я, — через тридцать шесть лет. О господи, да я безумней Ахава!» 10.
Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине как механическая, на колесах, греческая Судьба, увлекаемая черной металлической Фурией.
Говорят, что вернуться в Прошлое невозможно. Это ложь.
Если тебе посчастливилось и ты рассчитал правильно, ты прибудешь на закате, когда старый городок полон золотого света.
Я сошел с поезда и зашагал по Гринтауну, потом остановился перед административным зданием; оно полыхало пламенем заката. Деревья были увешаны дублонами. Крыши, карнизы и лепка были чистейшая медь и старое золото.
Я сел на скамейку в сквере перед этим зданием, среди собак и стариков, и сидел там, пока не зашло солнце и в Гринтауне не стало темно. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла сполна.
Такого преступления не совершал еще никто.
Я побуду здесь, совершу убийство и уеду, чужой среди чужих.
Кто, увидев тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, посмеет предположить, что какой-то двенадцатилетний мальчик, которого послало в дорогу немыслимое презрение к себе, прибыл сюда не то на поезде, не то на Машине Времени и выстрелил в прошлое? Такое представить себе невозможно! Само безумие было мне наилучшей защитой.
Наконец в восемь часов тридцать минут этого прохладного октябрьского вечера я встал и отправился на другой конец городка через овраг.
Я не сомневался в том, что Ральф по-прежнему здесь.
Ведь вообще случается, что люди и переезжают…
Я свернул на Парковую улицу, прошел двести ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел напротив, на другую сторону. Белый двухэтажный викторианский дом Ральфа Андерхилла ждал меня.
И я чувствовал, что Ральф Андерхилл в этом доме.
Он был там, сорокавосьмилетний, точно так же, как здесь был я, сорокавосьмилетний и полный старой, усталой и самое себя пожирающей отваги.
Я шагнул в тень, открыл чемодан, переложил пистолет в правый карман пальто, запер чемодан и спрятал в кустах, чтобы потом, позднее, подхватить его, спуститься в овраг и через городок вернуться на станцию.
Я перешел улицу и остановился перед домом, это был тот же самый дом, перед которым я много раз стоял тридцать шесть лет тому назад. Вот окна, в которые, самоотреченно любя, я, как букеты весенних цветов, швырял камешки. Вот тротуары с пятнами от шутих, сгоревших в незапамятно древние Четвертые Июля, когда мы с Ральфом, ликующе визжа, взрывали к черту весь этот проклятый мир.
Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике надпись мелкими буквами:
Андерхилл.
А что, если ответит его жена?
Нет, подумал я, он сам, собственной персоной, неотвратимо, как в греческой трагедии, откроет дверь, примет выстрел и, почти благодарный, умрет за старые преступления и меньшие грехи, каким-то образом тоже ставшие преступлениями.
Я позвонил.
Узнает ли он меня, через столько лет? За миг до первого выстрела назови, обязательно назови ему свое имя. Нужно, чтобы он знал.
9
Имеется в виду старинный обычай, пришедший в США из Англии: новобрачных, желая им богатства и счастья, осыпают рисом. — Прим. перев.
10
Ахав — библейский персонаж, царь, совершивший много злодеяний. — Прим. перев.