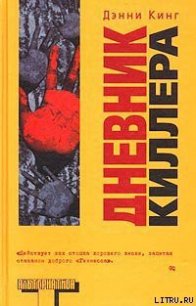Дневник, найденный в ванне - Колесников Олег Эрнестович "Magister" (полная версия книги .TXT) 📗
Страшно постаревший с того мгновения, как избавился от головного убора и оружия, он зашептал:
— Тайный… хе-хе… тайный…
Он словно бы развеселился от мысли о моей мнимой профессии, а может, при всем своем величии, он просто немного впал в детство?
Я предпочел, однако, полагать, что, приговоренный жить в мундире среди иных мундиров, он лелеет тщательно скрываемую симпатию ко всему штатскому, в котором находит привкус запретного плода. Я готов был уже броситься к его ногам и рассказать обо всем, что со мной приключилось, но он снова заговорил:
— Тайный… эхе-хе… тайный?
Для меня это прозвучало как-то иначе, словно он пытался смягчить слово «тайный». Он обезоруживающе похрюкивал, пощелкивая слегка языком, чуть похрустывая суставами — все это было словно бы просто так, но скрывало какую-то внутреннюю дрожь. Он успокаивал себя покашливанием, но глаза его уже забегали. Неужели он мне не доверял? Я заметил, что и на мои ноги он поглядывает подозрительно.
Почему именно на ноги? Не потому ли, что я собирался упасть на колени?
— Тайный! — прохрипел он.
Я подскочил к нему. Он поднял руку.
— Нет! Не слишком близко! Слишком близко нехорошо, не надо. Пой, тайный, о чем ты думаешь! — крикнул он внезапно.
Я понял, что, помня о вездесущем предательстве, умудренный старец наказывает мне напевать вслух мои мысли, дабы ничто не могло быть от него скрыто.
— Какой, однако, необычный метод!.. — начал я. Это было первое, что пришло мне на ум, а дальше все пошло уже само собой.
Он глазами указал мне на боковой ящик стола, я с пением выдвинул его. Он был заполнен скляночками и бутылочками, из недр его ударил мне в нос и ошеломил запах старинной аптеки. Старец дышал чуть тише, а я, роясь в ящике, лихо продолжал напевать…
Его глаза осторожно, даже тревожно провожали одну за другой бутылочки, которые я по интуитивной подсказке выставлял перед ним. Он приказал выровнять их в линейку и, распрямившись в кресле — я слышал, как потрескивали его высохшие кости — закатал как можно осторожнее рукав мундира, затем медленно стянул перчатку. Когда из-под замши показалась высохшая пятнистая тыльная сторона ладони с прожилками, пупырышками и сидящей на ней божьей коровкой, он вдруг приказал мне прекратить пение и процедил шепотом, чтобы я подал ему прежде всего пилюльку из золотистой скляночки. Он проглотил ее с видимым трудом, долго подержав перед этим на непослушном языке, после чего приказал принести стакан с водой и отмерить туда другое лекарство.
— Крепкое, тайный, — шепнул он мне доверительно. — Будь начеку! Не перелей! Не перельешь, а?
— Конечно же, нет, господин адмирадир, — воскликнул я, тронутый таким доверием. Старческая ладонь, пятнистая, в бородавках, затряслась сильнее, когда я начал отсчитывать капли ароматного лекарства из фиолетовой бутылочки с притертой пробкой.
— Один, два, три, четыре… — считал он вместе со мной.
Отсчитав шестнадцать — при звуке этого числа пальцы у меня дрогнули, однако я не уронил уже дрожавшей на стеклянном краешке следующей капли, он проскрипел:
— Хватит!
Почему именно при шестнадцати? Я встревожился. Он тоже. Я подал ему стакан.
— Хе-хе, прилежный тайный, — беспокойно забормотал он. — Ты, хе-хе, ну, этого… того. Попробуй сначала сам…
Я отпил немного лекарства. Только выждав десять минут с хронометром в дрожавшей руке, он тоже принялся его пить. У него это никак не получалось — зубы звенели о стекло. Я принес другой стакан, пластмассовый и широкий, куда перелил содержимое, он вцепился в него двумя руками и с трудом выпил спасительную жидкость. Я помог ему, придержав его руку. Косточки в ней двигались словно ссыпанные в кожаный мешок. Я дрожал, опасаясь, как бы ему не стало плохо.
— Господин адмирадир, — зашептал я, — вы позволите мне изложить вам мое дело?
Он прикрыл веками затуманенные зрачки, уходя немного в себя. Так, в молчании, слушал он мое сбивчивое повествование.
Тем временем его рука, словно не принимая в этом участия, поползла к шее. Он с усилием отстегнул воротничок, потом протянул руку мне, и я догадался, что должен снять с нее перчатку. Хрупкую, обнаженную, он положил ее на другую руку, ту, которая была с божьей коровкой, тихонько раскашлялся, очень деликатно, с тревожным блеском в глазах, пытаясь ослабить то, что беспокоило его в груди, а я, ни на минуту не прекращая говорить, описывал запутанную череду моих злоключений. С его слабостью, причиной которой был преклонный возраст, ему, похоже, не чуждо было сочувствие всякой иной слабости и даже истинное, глубокое сопереживание. С какой заботливостью следил он за своим слабым дыханием, которое, казалось, то и дело подводило его… Его лицо, все в отеках и пятнах, стало казаться меньше по сравнению с восково-белыми оттопыренными ушами, которые могли ассоциироваться в чьем-нибудь вульгарном уме с каким-то неуклюжим полетом, но именно своей изнуренностью, мученическим увяданием вызывало оно мое уважение, даже жалость.
Были у него и наросты, один из которых, на лысине, едва прикрытый седым пушком, размером аж с куриное яйцо — но ведь то были шрамы и увечья, приобретенные в борьбе с неумолимым временем, которое, в то же время, оказало ему наивысшую из возможных почестей.
Желая очистить свою исповедь от налета всякой служебности, я присел сбоку от стола и излагал историю моих промахов, ляпсусов и ошибок так искренне, как, пожалуй, еще никогда никому не рассказывал. Он мерно кивал, соглашаясь со мной дыханием, его успокаивающей размеренностью, брал под защиту, всепонимающе прикрывая глаза веками, едва заметной улыбкой, мимолетно пробегавшей по его не затронутым сосредоточенностью губам. Речь свою я заканчивал опираясь о стол и наклонясь вперед, но и это нарушение регламента он, видимо, не считал предосудительным. Полный самых радужных надежд, тронутый собственными словами до глубины души, я произнес длинную заключительную фразу, после чего проговорил голосом, дрожащим от страстности мольбы:
— Вы мне поможете? Что же мне делать, господин адмирадир?
Я замолчал, а он все продолжал кивать головой, словно снова и снова меня одобрял.
Его лица, повернутого в сторону от меня (возможно, он принимал на свой счет весь стыд ответственности за разнузданность Здания, которое представлял своим именем), я не видел, заметно было лишь мерное опускание и поднимание ресниц под маленьким пенсне, сделанным из тончайших золотых проволочек, чтобы излишне не отягощать его столь мучительное и столь еще необходимое существование.
Затаив дыхание, я еще ближе придвинулся к нему — и испугался. Все это время он спал, сладко дремал — видимо, так на него подействовало отмеренное мной лекарство — и слегка при этом пыхтел, словно бы в горле у него ходил какой-то клапан.
Замолчав, я тем самым углубил его сон, и, тихонько присвистнув, он умолк, словно в испуге, но тут же снова стал усиленно посвистывать, посапывать и похрапывать: среди приглушенных звуков дремучего леса эхом отзывались отголоски давно минувших охот, отзвучавших рогов, хрипение, рев, время от времени раздавался выстрел, донесенный ветром, приглушенный, далекий, после которого все на какое-то время замирало, пока тишину снова не разрывал приглушенный звук трубы, а я тем временем, приподнявшись, перегнулся через стол, испытывая желание согнать с него этого жучка, божью коровку, присевшую ему на руку, которая уже долго слегка смущала меня, но то была не божья коровка…
Воспользовавшись случаем, я разглядел его с близкого расстояния многочисленные синюшины, вздутия наростов, множество пухлых бородавок, и бородавок посуше, более плоских, некоторые были даже с какими-то петушиными гребешками, в ушах у него росли волоски, в носу — другие, пожестче, дерзкая растительность, такая противоречащая старческой деликатности, такая наглая…
Ранее я уже заметил, в какой степени мундир служил ему опорой, каркасом, и как, расстегнув его, он ослабил связи своей особы. Вблизи зрелище было еще хуже. Не случайно он требовал расстояния, дистанции! Издали — невинное посвистывание, посапывание, клапан, при более близком рассмотрении — нагноение без числа, без ограничения, и все втихую, украдкой — это попахивало какой-то подрывной деятельностью. Может, это было помешательство кожи, ее мечты о позднем ренессансе? Самозародившееся творчество над старческими, деревенеющими жилами? Как бы не так! Пожалуй, это был бунт, мятеж, паника, охватившая провинции организма, попытка ускользнуть, удрать, искусно замаскированное бегство сразу во все стороны — повсюду скрытно разрастались бородавки, увеличивались наросты, опухоли, пытаясь любой ценой оказаться как можно дальше от истощенного породившего их тела! Зачем? Чтобы самим, оказавшись в одиночестве, рассеявшись, стать добычей неумолимого?