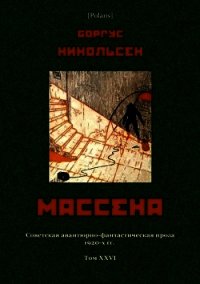Сокровища града Китежа Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием издательства, приме - Мэнн Жюль (онлайн книга без .txt) 📗
— Ха-ха-ха!
Еще ни разу в жизни никто из нас так весело не смеялся.
— Ха-ха! Веселые китайцы, как говорят у нас на родине! Торжество? Им — всенародное торжество, а нам — сокровища града Китежа! Ух! Ну и ослы же! Всенародное торжество! Вот это здорово!
Мы валялись в мягкой траве и смаковали этот неожиданный анекдот.
Солнце пригревало жарче. Мы смеялись слишком много. Мы обсосали веселый казус со всех сторон. Разговор рассыхался, как опустевшая бочка на солнце. Язык ворочался во рту неохотно и медленно. Солнце старательно жарило. По верхам кустов шелестели ветры. Веки смыкались и перед глазами радужными золотыми слитками плясали сокровища града Китежа. Мы уснули.
— Тррам-там-там!..
Сон ушел внезапно, так же, как и пришел.
— Что это? Вы слышите, Бартельс? Оркестр?
— Ничего не понимаю! Кажется, оркестр.
Недоумевая, мы прикрыли глаза ладонями и вгляделись.
Солнце играло с медью оркестра и звуки оркестра играли с солнцем. Красные знамена и плакаты цвели над толпой рабочих, как протуберанцы. Море людских голов заливало плато у каналов. Человечьи волны захлестывали трибуну и над обнаженными головами она, белая, свеже-сосновая, плыла к каким-то далеким, неведомым берегам.
— Не кажется ли вам, Бартельс, что это слишком любезно с их стороны? Ведь, в конце концов, — это наш праздник, а не их!
— Ну что ж, если это им доставляет удовольствие… Но вглядитесь повнимательнее, — их чересчур много, здесь есть посторонние.
— Да, вы правы, — это крестьяне. И значительно больше, чем наших рабочих.
— Мм-да, — странно и непонятно.
— Дорогой учитель, быть может, вы нам объясните, чем вызвано такое многолюдное и торжественное сборище?
— Да, я постараюсь. Я в последние дни как раз уделял много времени изучению древних русских обычаев и, если мне позволено будет так сказать, — неписаных законов. Так вот: во времена язычества славяне, в том числе и русские, — обожествляли труд. Всякое дело, требовавшее коллективного труда, труда двух или больше особей, — они начинали и кончали празднеством. С музыкой, танцами и песнями. Во времена христианства — обычай этот отмер. Вернее, переродился. Всякое дело начинали и кончали молитвой. А теперь, когда большевики, так сказать, упразднили религию, — мы наблюдаем возврат к языческим обычаям. Всякий труд, в особенности коллективный, они начинают и кончают торжественными сборищами с пением и музыкой.
Исчерпывающее объяснение дорогого учителя было безупречно и мы выслушали его с удовольствием. Мы на минутку затихли и, стоя неподвижно, прислушивались к говору толпы, доносившемуся даже сквозь звуки оркестра. Внезапно нам взгрустнулось. Бывает вдруг такая коллективная грусть. Я не знаю, чем ее объяснить. Быть может, мы жалели великий русский народ, под влиянием варварского большевизма вновь возвратившийся к древним, языческим обычаям.
Молчание нарушил Бартельс:
— Ну что ж, господа, нам надо идти. Вероятно, нас там ждут.
Он посмотрел на часы.
— Да и потом, уже скоро пуск воды.
Пауза, и потом пророчески торжественные слова дорогого учителя:
— Да! Скоро торжество пуска воды!
Опять пауза. Бартельс нервничает и теребит галстук.
— Ну, — пошли! — решительно нарушает он молчание.
Оноре Туапрео с необычайно торжественным видом снимает шляпу. Ветер, словно только и ждал этого, подхватил его седины. Мы невольно поддаемся настроению, охватившему дорогого учителя, и тоже обнажаем головы.
— Дети мои! По древнему христианскому обычаю, перед тем, как пуститься в странствие — присядем!
Торжественные звуки оркестра у трибуны подчеркнули слова почтенного старца. Мы опустились на скалы. Присели.
— Через час или полтора, с потоками воды, которая хлынет в каналы, — мы отправимся в страну славного града Китежа! Нас ожидает там… Там ожидает нас…
Сердце гениального старика не выдержало — и он расплакался. Да это и не удивительно, — ведь близилось свершенье его непревзойденного замысла. Как могли, как умели — мы утешили его.
Оркестр смолк, а на плывущей по людскому морю трибуне появились потешно маленькие отсюда фигурки людей. Одна из них резко и четко размахивала руками, словно пригоршнями сыпала в застывшую толпу слова.
— Ну, пора, пора! Идемте!
Бартельс был энергичен и мы тронулись.
Странные люди, странные речи, странный, незабываемый день!
Мы пробрались к самой трибуне. Молча и сурово расступались перед нами люди и мы внезапно почувствовали себя нехорошо. Неприятно как-то, знаете ли. Ну вот, словно мы, невооруженные и беззащитные, попали в стан врагов. Правда — они расступаются перед нами, они молчат, но кажется, что все это до какого-то известного предела. А наступит момент — и эти молчаливые люди втопчут нас в землю, раздавят, оставят одно мокрое место и дурную память. В общем, неприятное чувство, — даже мурашки поползли по спине. Я вспомнил слова Катюши Ветровой:
— Вы, господин Жюлль, наш классовый враг и я вас прошу всегда об этом помнить!
В эту минуту я понял, что девятнадцатилетняя Катюша может говорить серьезные и страшные вещи.
Так мы, молча, с мурашками на спине, со страхом или с трепетом — шли. Мы благополучно добрались до трибуны. Катюша заметила нас. Она выразительно показала рукой, приглашая на трибуну.
— Жюлль! — внезапно схватил меня за руку порядком перепуганный Бартельс:
— Мы не полезем туда, — вы слышите, мы не полезем!
Я подумал: не следует отказываться, если тебя приглашает классовый враг. И потом, вообще было поздно отступать, — наш дорогой учитель цепко ухватился за чью-то протянутую руку и был уже на трибуне. Бартельс от перепуга проявил необычайную прыть и взобрался туда же без посторонней помощи. Я завершил наше позорное восшествие. Тут началась наша голгофа.
Прежде всего громыхнул горластой медью оркестр и звуки «Интернационала» в течение двух минут дубасили нас по башкам. От негодования, а может быть, от страха — Бартельса бросило в пот. Красный и мокрый, он растерянно озирался по сторонам. Мне тоже было не по себе. И только Оноре Туапрео, по-видимому, чувствовал себя хорошо. Он стоял у барьера, делал ручкой и кланялся во все стороны. Совсем так, словно вся эта толпа собралась сюда, чтобы устроить овацию его несомненному гению.
Но вот оркестр, наконец, умолк. Оноре по-прежнему орудовал ручкой и раскланивался. Катюша коротко и неслышно сказала ему что-то и дорогой учитель, в последний раз взмахнув — прекратил свои физкультурные движения и застыл в «достойной неподвижности».
— Товарищи! — далеко и звонко разлетался голос Ветровой. Она начала речь. Очевидно, я совсем неважно чувствовал себя, потому что никак не могу восстановить полностью смысла того, о чем говорил мой классовый враг. Помню только, что нам, концессионерам, «перепадало на орехи» на каждом десятом слове. И если в начале речи, по-видимому, сдерживаясь, Ветрова называла нас концессионерами и иностранным капиталом, то под конец — она просто ругала нас. Мы оказались махровыми представителями проклятой мировой буржуазии, которую в недалеком будущем пролетариат сметет с лица земли. Мне становилось все больше не по себе и я уже почти ничего не соображал. Глаза мои искали поддержки у Бартельса, но тот, забившись в дальний угол трибуны, выглядывал оттуда безнадежно, как затравленный волк.
Катюша все азартней выкрикивала свою ужасную, зажигательную и подстрекательскую речь. Я, конечно, не думал о мировой буржуазии и меня мало беспокоил ее грядущий конец, но мне казалось, что многоголовое чудовище, стоящее под трибуной, сагитированное Катей, — вот сейчас, сию минуту, а не в недалеком будущем набросится на нас и действительно сотрет с лица земли! От ужаса мне почудилось, будто все они, эти люди, узнали нашу тайну о сокровищах, разгневаны тем, что мы хотели присвоить эти сокровища, — и сейчас выльют свой гнев и месть на наши растерзанные трупы. И когда на страшно высокой ноте Катюша выкрикнула свой последний призыв:
— Да здравствует мировая революция! — грянул гром, обрушилось небо и я, от ужаса поминая всех святых и покойных своих родителей, закрыл глаза в свой смертный час. А надо мной грохотало. Мучительные секунды тянулись бесконечно и я уже молил творца, чтобы эти разъяренные люди скорей прикончили меня.