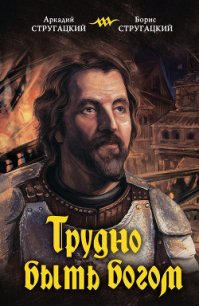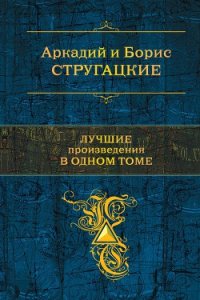Желание странного (сборник) - Стругацкие Аркадий и Борис (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT) 📗
Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: „Телеграмма, прошу расписаться…“ Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.
Телеграмма была от тещи. „ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА“. И ниже была приклеена полоска: „ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК“. Я прочитал телеграмму и перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: „Мама с Бобкой приезжают завтра…“ – и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листки, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом „Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в Галактике“. Перечитал, подумал и густо зачеркнул „Д. Малянов“. Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: „Я к Вечеровскому. Скоро вернусь“.
По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз, во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.
Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивши рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:
– Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич…
Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.
– Не ходите туда сейчас, – повторил он. – Не надо.
Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным – то ли грязью, то ли сажей, – смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:
– Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.
Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.
– Понимаете, – проговорил он наконец, – капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.
– В нашем веке это тоже случалось, – сказал я. – И не так уж редко.
– Да, конечно, – легко согласился он. – Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится… И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими – перед обществом, перед друзьями… А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло… Может быть, потому что мир стал сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения…
Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:
– Не знаю. Может быть.
– Я тоже не знаю, – сказал он. – Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал… Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет… Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век – разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.
– Я понимаю, – сказал я. – Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее…
– Ради бога! – прошептал он. – Я ведь совсем не к тому… Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую… где уж мне… Вы знаете, я все думаю… вот такие, как мы, – что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, – атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.
Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:
– Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать…
Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.
– Вы ведь можете лифт вызвать, – сказал я ему в спину.
Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь, дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.
Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать немедленно.
Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал, снова надавил звонок и не отпускал кнопку до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:
– Кто там?
Почему-то я даже не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивая. Как я. Как все мои знакомые.
– Это я. Открой.
– Подожди, – отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.
Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне не ходить сюда сейчас. „Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить“. Откуда это? Что-то страшно знакомое… Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.
Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.
– Заходи, – сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу…»
Глава одиннадцатая
21. «…Ты все-таки принес, – сказал Вечеровский.
– Бобка, – сказал я и положил свою папку на край стола.
Он кивнул и грязной рукой размазал сажу на грязной щеке.
– Я этого ждал, – сказал он. – Правда, не так быстро.
– Кто у тебя? – спросил я, понизив голос.
– Никого, – ответил он. – Нас двое. Мы и Вселенная. – Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. – Извини, я все-таки умоюсь…
Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.