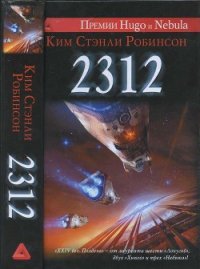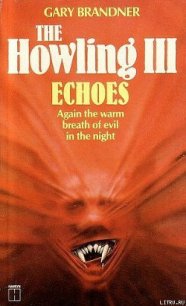Золотое побережье - Робинсон Ким Стэнли (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
– А что… – Джима больше всего волнуют собственные проблемы, собственный выбор. – А что бы ты сделал сегодня? То есть, дядя Том, если бы ты снова хотел бороться с несправедливостью, с людьми, которые всем заправляют, – что бы ты тогда делал?
– Не знаю. Я не вижу никакого осмысленного пути. Преподавал бы, наверное. Только ведь и это бесполезно. А может, стал бы писать. Или занимался той же юриспруденцией, но на более высоком уровне. Чтобы каким-нибудь образом влиять на сами законы. Ведь все дело, Джим, именно в этом, в пирамиде привилегий и эксплуатации, которая опирается на законы нашей страны. Именно ее нужно переделывать.
– Но как? Ты смог бы заняться активной борьбой? Ну, вроде как… выйти ночью и взорвать оружейный завод, или еще что-нибудь такое?
Живые, блестящие глаза дяди Тома снова смотрят в окно, на небо. Как и обычно, вспоминая прошлые свои горечи и обиды, он взбодрился, даже помолодел.
– Конечно, если бы имел уверенность, что никто при этом не пострадает. Никто, – рвущаяся бумага, – включая и меня самого! Вечные либеральные предрассудки, они, пожалуй, и были главной моей бедой. Но вообще говоря – да. Одной-двумя такими акциями, конечно же, не обойдешься, их потребовалось бы очень много. Но ведь нужно каким-то образом остановить этих идиотов. Они же вытягивают из мира последние соки – и все для продолжения своих игр.
Джим молча кивает. Разговор переходит на родителей Джима, ассоциация вполне прозрачная, хотя никто не упоминал о характере работы Денниса. Потом Джим немного рассказывает о своей работе, о друзьях; постепенно глаза дяди Тома начинают тускнеть. Он заметно устал – весь обмяк, обвис, говорит хрипло, с трудом. В который раз Джим осознает, что этот разум, этот острый живой разум заперт в ветхом, на глазах расползающемся теле, которое держится исключительно на кислороде и лекарствах. В теле, которое время от времени отравляет разум, притупляет его остроту… Костлявые руки цепляются за простыню, ползут по ней, словно два краба; коричневая, пятнистая кожа, пальцы, навечно скрюченные распухшими суставами… Как же ему больно! И эта боль не утихает ни на секунду, стала частью его жизни!
Подобные вещи Джим представляет себе весьма умозрительно, так что мысль о страданиях дяди Тома задерживается в его голове недолго. Да и вообще пора идти.
– Дядя Том, расскажи мне еще что-нибудь об округе Ориндж, а потом я пойду.
Дядя Том смотрит на него невидящими, неузнающими глазами; Джим зябко ежится. Глаза снова фокусируются. Дядя Том поворачивается к окну.
– У мыса Дана, там где потом построили пристань, под обрывом был прекрасный пляж. Туда мало кто ходил. С обрыва спускалась старая, разболтанная деревянная лестница, другой дороги на пляж не было. Многие ступеньки повываливались, с каждым годом лазать по этой лестнице становилось опаснее и опаснее. И все-таки мы по ней лазали. Идти нужно было сразу после сильного шторма. Волны обдирали с пляжа песок, промывали его и швыряли обратно. И в этом песке попадались крохотные кусочки цветных камней. Мы называли его «самоцветный песок». Не знаю уж, действительно ли это были осколки сапфиров, рубинов, изумрудов, но выглядели они похоже, и мы их так называли. И не подумай, что стекляшки, – самые настоящие камни. Нужно было идти по пляжу очень медленно и всматриваться, а потом вдруг видишь цветную вспышку, зеленую, красную, голубую – яркую, отчетливо различимую на фоне мокрого песка. За день удавалось набрать крохотную горсточку, а если потом положить их в банку с водой… У меня была такая банка. Интересно, что с ней случилось потом. А что случается потом со всеми твоими вещами? Со всеми людьми, которых ты знал? Но я точно знаю, что сам бы ее никогда не выкинул…
Дядя Том впадает в задумчивость, а затем в сон, очень беспокойный – так вздрагивает и мечется, что кислородная трубка чуть не передавливает ему горло. Джим, слушавший историю про самоцветный песок далеко не в первый раз, передвигает трубку в сторону, расправляет, сколько может, простыни и уходит в настроении еще более тоскливом, чем раньше. Какое же тут было когда-то место! А человек, отдельная, ни на какую другую не похожая личность, целая жизнь. Бессмысленно цепляющийся теперь за жалкие остатки этой жизни. И какое тут кошмарное заведение – тюрьма для стариков, настоящий концлагерь! Все это просто ужасно. Нужно приходить сюда почаще, дяде Тому нужна компания. К тому же он – источник исторической информации, без всяких шуток, самый настоящий источник.
Но, выезжая на пятый, он начисто все это забывает. Дело в том, что визиты к дяде Тому неизменно действуют на Джима угнетающе, поэтому он каждый раз спешит выкинуть неприятные мысли из головы и приходит сюда только при самой уж крайней необходимости.
Теперь – к родителям, ужинать. А потом еще этих учить. Да уж, денек получается – врагу не пожелаешь.
Глава 13
Джим ушел, а дядя Том продолжил свой рассказ – мысленно, сам себе, но вроде как и Джиму.
Ребенком я играл в апельсиновых рощах. Когда живешь на улице, концом своим упирающейся в огромную, почти бесконечную апельсиновую рощу, гулять тебе позволяют сколько угодно и когда угодно. Лучшее время было после полудня, но не совсем еще вечером, когда жарко и весь мир словно пропитан сонной одурью. Почему-то всегда было солнечно, я совсем не помню пасмурных дней.
Землю между деревьями расчищали – тщательно, не оставляя ни единой травинки. Вокруг каждого дерева была кольцевая ирригационная канава поперечником футов, наверное, в тридцать, отчего рощи выглядели немного странно. И симметричная планировка – она тоже производила странное впечатление. Каждое дерево занимало точно ему определенное место в ряду и в шеренге, и в двух диагоналях – насколько хватал глаз, все эти линии оставались безукоризненно прямыми. Симметричными были и сами деревья, формой похожие на оливы и состоящие из маленьких зеленых листиков и маленьких перекрученных веток.
Апельсины там были почти всегда – деревья цвели и приносили урожай два раза в год, и большая часть года приходилась на вызревание. Поначалу маленькие и зеленые, апельсины становились постепенно желто-зелеными, желтыми и приобретали наконец оранжевый цвет, по мере созревания темневший; затем апельсины, если никто их до этого не сорвал, темнели до коричневато-оранжевого оттенка, потом становились совсем коричневыми и сухими, маленькими и твердыми, затем – серовато-коричневыми и наконец обращались в землю, из которой вышли. Но по большей части их собирали.
Мы кидались апельсинами друг в друга – вроде как снежками, заранее слепленными и готовыми к употреблению. Мягкие, перезревшие расшибались при ударе в ошметки, и пахло от них плохо, а когда в тебя попадали зелеными, твердыми, было немного больно. Мы устраивали целые войны, швырялись апельсинами и уворачивались, и это было немного похоже на немецкую игру, в которую мы играли в школе и в которой тебе стараются запятнать мячиком. И никто особенно не боялся, что в него попадут, – разве что последующих объяснений с матерью по поводу пятна на рубашке или синяка. Очень веселая получалась война и немного странная. Иногда я думаю – а не попал ли кто-нибудь из наших мальчишек потом во Вьетнам? Если да, они были плохо подготовлены к той войне.
А еще мы ходили в те самые рощи с луками, пытались стрелять кроликов. Их там была целая пропасть, и как же здорово они бегали. Нам никогда не удавалось подобраться к кроликам достаточно близко для хорошего выстрела – и слава Богу, как я теперь думаю, – так что приходилось довольствоваться стрельбой по апельсинам. Идеальные мишени – попасть очень трудно, но зато сколько радости, когда это получается. Апельсин раскалывался и отлетал в сторону, а иногда так и оставался висеть на ветке с торчащей в нем стрелой, и это было здорово.
А когда мы ели апельсины, то выбирали исключительно самые лучшие. Едкий, зеленоватый сок, выступающий на кожуре, когда ее снимаешь, белые мягкие лохмотья с оборота этой кожуры, резкий, ароматный запах, дольки – идеально закругленные, серповидные дольки… странно это все. Их вкус всегда казался мне каким-то не совсем реальным.