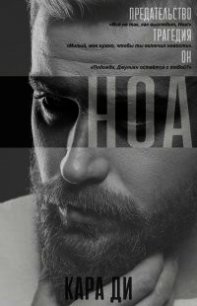Человек, который разговаривал с ангелами - Лукьяненко Сергей Васильевич (лучшие книги .TXT) 📗
— В общих чертах… не так систематизировано, — я закивал, всем своим видом демонстрируя живейший интерес.
— Идем дальше, на что похожа глоссолалия, — профессор вдруг нахмурился и протараторил: — Амина, супитер, амана, регедигида, треги, регедигида, регедигида, супитер, супитер, арамо, сопо, ропота, карифа!
— Ух ты! — сказал я. Фрагмент был из самых классических, но мне хотелось порадовать профессора.
— Так бормочут русские харизматики, — профессор кивнул. — А вот так — американские: гиппо, геросто, непарос, борастин, форман, о фастос, соургор, боринос, эпонгос, ментаи, о дерипан, аристо, экрампос…
— Отличается, — заметил я.
— Разумеется! Глоссолалия — это нечто наподобие детского лепета, когда ребенок пробует на язык всевозможные звуки, фонемы языка. Точнее — языков. Родившийся младенец имеет в сознании определенную матрицу, схему того, как научиться разговаривать. Причем в схеме этой существуют все языки мира, даже самые экзотические. Перенеси русского младенца к бушменам, и он заговорит на каком-нибудь из койсанских языков. Перенеси в Кению — залопочет на суахили. И наоборот, разумеется. И в тот же срок, что и другие дети. Рождаясь, мы храним в себе зерна всех языков мира — и лишь от того, где мы живем, зависит, какое зерно даст росток, а какое сгниет!
Профессор энергично рубанул воздух ладонью, будто радуясь уничтожению лишних зерен. Я торопливо спросил:
— Так значит, глоссолалия — детский лепет?
— Ну, очень упрощенно, — поморщился профессор. — Скорее, это отдельные фонемы родной речи, которые не имеют нормальной языковой структуры, не подчиняются общим лингвистическим законам. Глоссолалия немца, русского, американца будет слегка схожа, но схожа именно общей бессмысленностью, хаотичностью. Однако по фонемам можно будет достаточно убедительно вычислить национальность говорившего! Кстати, забавно, но глоссолалия русских частенько похожа на немецкую речь. Почему? «Говорящий на языках» человек явно или неявно пытается сделать свой лепет не похожим на родной говор. А немецкий язык по своей структуре полярен русскому. Не зря же именно жителей Германии в России назвали «немцами», немыми. Не англичан, голландцев или французов, которых тоже было немало! Именно немцев…
Он замолчал и поморщился, явно потеряв нить разговора.
— Глоссолалия — это неструктурированная речь, состоящая из фонем родного языка, но которую говорящий пытается сделать как можно более чужой, иностранной, — сказал я. — Так?
— Так. А что мы имеем в случае вашего друга? Я был убежден, если честно, что услышу типичную глоссолалию, пусть даже и нерелигиозного генеза. Но… — он замолчал.
— Но?. — с надеждой спросил я.
— Я не улавливаю никаких фонем русского языка, — сказал Пётр Семёнович. — Ни малейших. Русский для вашего друга родной?
— Конечно.
— А какие еще он языки знает?
— Английский на туристическом уровне. Ну, читать-то он на нем может с трудом, а вот за рубежом объясниться сумеет… в магазине там или в баре…
Профессор хмыкнул. Повторил:
— Русских фонем нет. Английских тоже. Ни на один известный мне язык не похоже, но… Но это язык. Или очень хорошая его имитация.
— Некоторые слова повторяются, правда? — спросил я.
— Дело даже не в этом. Повторяются некоторые лексические структуры. А это подделать сложнее… по сути — надо придумать новый язык.
Я кивнул.
— Приходите ко мне… — профессор задумался, — завтра вечером. Хорошо? И непременно с этим вашим другом!
— Обязательно, — ответил я и поднялся с кресла.
Уже в дверях профессор спросил меня:
— Скажите, Андрюша… А часто с тех пор ваш товарищ говорит на этом языке?
Все-таки он застал меня врасплох, и под его насмешливым взглядом я не решился солгать:
— Да хоть каждый день. Попросишь — он и говорит. Чего говорит — не понимает, но говорит.
— Записывали? — спросил профессор с понимающей улыбкой. Я вздохнул и достал из кармана вторую флэшку.
— Берите.
— Завтра верну, — с улыбкой сказал профессор, забирая у меня карту.
Кабайлов ждал меня у метро. Высокий, черноволосый, немного похожий на кавказца, что служило причиной частых конфликтов с ментами, Димка топтался у совершенно ненужного ему табачного ларька. В ушах — наушники от плеера, на лице — привычная для москвичей уличная торопливость, призванная отпугивать попрошаек и заблудившихся приезжих, в руках — «Советский спорт». Димка мрачно изучал футбольную страницу — видимо, «Динамо» опять не порадовало.
Завидев меня, Дима свернул трубкой несчастную газету и отправил в урну. Торопливо вынул из ушей наушники, вопросительно кивнул.
— Заинтересовался, — сказал я.
— Оплиуап, — радостно сказал Дима.
— Соберись, — попросил я. — Не знаю, что такое твой оплуюап.
— Оплиуап, — горько повторил Дима.
— Оплиуап, — старательно повторил я и покачал головой. Нет, не получалось у меня скопировать Димин выговор. Вроде и все звуки на местах, а не то… — Кабайлов, кончай нести чушь!
— Хорошо, я говорю, — уныло сказал Дима. — О! По-русски?
— Да, — о том, что у него остался легкий акцент, я говорить не стал.
— Переключился, — Кабайлов махнул рукой. — Черт, все чаще и чаще стало… Вчера родичи с племянником в гости приехали. Я с пацаном разговариваю, вдруг вижу — он хохочет. Оказалось, я уже минут пять на ангельском болтаю. А пацан решил, что это игра такая, не останавливал… мелкий еще, что возьмешь…
— Ну так это лучше, чем в «Перекрестке», — напомнил я.
— А что, забавно вышло, — Дима даже улыбнулся, — Ну, приняла кассирша за иностранца, ну и что?
На мой взгляд, кассирша в супермаркете приняла Диму не за иностранца, а за душевнобольного. Но я тактично промолчал. Кивнул на вывеску пивного бара, устроившегося в стратегически безупречной точке — между метро и крупной автобусной остановкой.
— Может, по кружечке?
— Лямс! — согласился Дима.
Я не стал его поправлять — и так было понятно, что предложение он принял. Эх, если бы можно было таким образом составить словарь! К сожалению, тот же энергичный «лямс» в другой ситуации мог означать не согласие, а раздумье или отрицание…
После первой кружки пива Диму отпустило. Он стал говорить по-русски совсем чисто, много шутил и даже переключился на другие темы — футбол, женщин и фантастику. Футбол в стране был плох, женщины Диму глубоко обидели — он недавно развелся, и даже фантастика его не особо радовала. Вместо того чтобы писать мудрую научную фантастику про путешествия к звездам и другим планетам, про тайны мироздания, про покорение мирового океана и единую теорию поля, фантасты как сговорились — принялись ваять всякую мистическую фигню про вампиров и прочую нечисть… Кстати, о единой теории поля… Дима принялся рассказывать анекдот про Эйнштейна в раю. Я слушал, пытаясь раскусить нераскрывшуюся фисташку и размышляя, какая блажь заставляет меня пробовать зубы на прочность. Ну полная чашка этих фисташек, откуда в человеке берется такая смесь жадности и глупости?
— Тут Эйнштейн и говорит: «Господи! У тебя в единой формуле мироздания — ошибка!». А Бог оглянулся и тихонько отвечает: «Да, я знаю…».
Димка сам же и захохотал, да и я улыбнулся. Но, похоже, анекдот опять напомнил Димке о его проблеме, он помрачнел и начал тянуть вторую кружку.
Прикончив по литру, мы покинули пивную и двинулись в разные стороны: Дима пошел домой пешком, ему было недалеко, а я сел на автобус. Завтра предстоял обычный рабочий день… для меня — обычный, а для Кабайлова — полный мучительной борьбы со своевольным языком.
К Петру Семёновичу мы пришли поздним вечером — летом в пятницу Москву захлестнули традиционные дачные пробки. Стоило, конечно, ехать на метро, но Дима этого ужасно не любил. Добровольно лезть под землю, по его словам, было противоестественно и глупо.
— Не зря фантасты всегда мечтали о воздушном транспорте, — сказал он, пока мы поднимались в лифте. — Вот доживем до флаеров и всяких там аэротакси — легче станет!