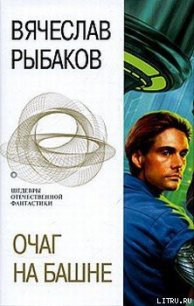Дерни за веревочку - Рыбаков Вячеслав Михайлович (книги без регистрации полные версии .txt) 📗
Надо было коротать время. Ждать, как всегда. Раз Она ушла вечером, значит, раньше полуночи не вернется, звонить так поздно уже неловко. До вторника четыре дня. Надо ждать. И набирать, набирать, набирать номер… И верить. Не напарнику, не Еве, не Вике – только Ей. И – Лидке верить, ведь бывает же, что женщина очень любит, бывает все-таки. Например, Лидка.
Шут. Что ж ты делаешь с Лидкой, Шут?! Как-то незаметно для себя Дима начал водить карандашом по листу блокнота. Песок? Нет, теперь это будет галька. Мелкая галька и два горбящихся над водой валуна – излизанных прибоем, с мягко гуляющими бородами коричневых водорослей понизу. И дальний берег, выдающийся в море темной чертой, опаловая гладь залива и потайная синева неба, пронзенного искрой Веспера над желтоватой зарей… Дима очнулся – был только карандаш; небо, вода, камни оказались серыми, как повседневность. Он бросился в угол, зажег свет, дрожащими руками стал натягивать маленький холст. А в сердце уже пылало нетерпение, закипал экстаз; не хватало воздуха и упруго била кровь в висках. Все пропало. Из коридора раздался голос тети Саши: «Эй, творец, чаи гонять будешь?» «Не-е…» – промычал Дима. Она заглянула и тихо притворила дверь. Она уже не раз видела такое и знала, что это надолго и добром не кончится. Чуткий, застенчивый Дима брызгал слюной: «Ну я же просил! Не мешать сейчас!!!» Она вздохнула – изведется парень. И девка-то так себе, неказистая. Кудлатая…
Дрожание рук пропало. Но дрожали нервы, ибо Бог приходил все реже. Ибо только ради этих секунд Дима и жил: кроме них, все было лишь ожидание. Даже нежная кожа под подушечками пальцев. Эти секунды были главным ответом напарнику и Еве, и всем ненастоящим. Если бы их можно было вызывать нарочно, эти секунды! Он широко, машуще швырял краску на полотно и не думал ни о смысле, ни о композиции, ни о будущем зрителе.
Он как-то вдруг узнал, что вечер поздний и безветренный. Необъятное море дымным розовато-серым зеркалом лилось к растворенному в сумерках горизонту. Заря, почти отгорев, оплывала на дальний мыс. Там мерцало пять огоньков. Там жили ловцы жемчуга. Что бы ни происходило на суше, они с рассветом уходили в море, в любую погоду, и каждый мечтал подарить жене хоть одну жемчужину. Но никто не мог этого сделать. Скупщики все понижали цены, продавать надо было больше, больше, иначе – голод. Да еще эти страшные слухи – будто на краю света, в стране Чипингу, научились разводить жемчужниц и собирают драгоценные капли, как картофель. Значит, цены совсем упали. Да уж куда падать-то, все думают только о жратве, красота не нужна никому, улова едва хватает, чтоб сводить концы с концами, и нельзя ни единой жемчужины подарить единственной, с которой мучаешься вместе, распятый подлой жизнью на одном кресте. Чтобы сказала «спасибо» и вскинула помолодевший взгляд. Чтобы разгладились просекшие грубую кожу морщины, которых становилось все больше с тех пор, как грянула вихрем искр и лент свадебная румба, и вдруг качнулись, как опахала во дворце басилевса, верхушки пальм… И ныряешь каждый день в страшную глубину не для нее, не для нее, а глубина выдавливает глаза, выхлестывает уши, а жемчуга все меньше… И потому, без сил вернувшись в дом на закате, не говоришь: «Как я соскучился по тебе за день, любимая…», а говоришь только: «Жена, жрать!»; говоришь: «Дома – хлев, почему до сих пор не выстирана скатерть?»; а сыну, вместо того чтобы по складам почитать с ним сказку, водя неразгибающимся пальцем по большим детским буквам, говоришь: «Отстань, ублюдок! Не видишь – отец устал?!» И единственная не говорит «спасибо», и морщины все безнадежнее просекают кожу, и глаза – маленькие, злые, все – забота о хнычущих детях, все – укор тебе, бездарному, не умеющему ничего, лишь уворачиваться от барракуд, одолевать мурен и заискивать перед скупщиком; лишь бросаться в пучину, находить там, на грани смерти, крупинки неземного огня и за бесценок продавать их, покатав в дрожащих от усталости, покрытых коркой мозолей и шрамов ладонях.
Но вечер. Пронзительный, словно совесть, пылает Веспер – огромная жемчужина, которую не продать и не купить, которая есть у всех, потому что она одна.
И там, куда вонзился острый огненный луч, вода, дрогнув, взлетела, как от удара. Не по-вечернему неистово ушел к зениту призрачный столб. И вдруг пена, простая морская пена, кинув белые брызги, лопнула на чем-то гладком, округлом, до прозрачности нежном, и в этом нежном отразился горный блеск. Боже мой, плечо! И рука, и вот тонкие, трепетные пальцы арфистки… часовщицы… И девичий, гордый и ломкий изгиб шеи – желтоватый блик, отражение зари… а из глубины взорвавшейся воды ослепительно высверкнули глаза. Огромные, наивные, незамутненные своими заботами и потому скорбные заботами мира… умоляю, иди к ним скорее, воскреси! Боже, как передать эту чистоту, которая должна, должна быть?! Вот… еще слегка… нет, соскоблить… а, черт, не туда ляпнул, опять руки дрожат… нет, не дрожат, просто не знаю, куда. Пена-то какая дурацкая, плотная, как железобетон…
Да, но у басилевсов не было опахал. И название Чипингу пришло только с Марко Поло, а во времена Афродит про Японию и лапоть не звенел… Ч-черт, глаза! Плагиатом занялись, Дымок, глаза-то как у Рериховской индианки из «Весны»?
Дима опустил кисть. Возбуждение и ярость клокотали в нем, хлестали изнутри по лбу и щекам; он, как Беллерофонт, падал с олимпийских высот, земля, крутясь, бешено налетала. Несколько секунд он всхлипывающе дышал – с кисти капало – и глядел на полотно. Все было мертво. Стояла баба в мыле. Глаза вострые, похотливые; чуть упоить ее – сама полезет…
Он не мог!!!
В мозгу взорвалась атомная бомба. Ибо ярче тысячи солнц запылал умирающий бог, и тысячеголосо завыли фиасты, раздирая рубища и кожу… Дима бросился на картину: кистью, словно ножом, пропорол холст. Все загрохотало, рушась, пол ушел из-под ног, а потом врезался в руку и лицо.
Стало тихо.
Дима лежал на опрокинутом мольберте… рядом с отвернувшейся, не захотевшей его Афродитой. Он перегорел. Он никому не нужен. Это не жизнь.
Так он уснул.
…Он медленно поднялся, поднял мольберт. Я плохо кончу, подумал он равнодушно. Вышел в коридор. С кухни аппетитно пахло стряпней, раздавалось потрескивание – что-то жарилось. Тетя Саша увидела его – серого, с оцарапанной щекой, с ладонью, покрытой корочками крови, и приветливо заулыбалась.
– Утро доброе работнику фронта культуры, – сказала она.
– Утро доброе работнику производительной сферы, – ответил Дима.
– А чего это у тебя шум был под утро, часов в пять? Я аж проснулась, думала – воры лезут.
– Воры и были, Родена украсть хотели, решили, что подлинный. Я с ними с тремя воевал, изранен.
– Не завидую ворам. От разъяренного художника не уйти.
– Они и не ушли. В комнате трупы штабелем.
– Завтракать будешь? Хотя уж обед на носу, первый час…
Дима глянул на часы – было семнадцать минут первого. По стеклу мышиной шерстинкой змеилась свежая трещинка.
– Если позволите, чайку глотну.
– Позволю.
Он наспех глотнул. Потом бросился на улицу, к телефону.
Сердце полетело куда-то в сторону, выбитое из груди знакомым «Да-э?»
– Здравствуй, – позвал он.
– А, привет! Вернулся?
Он перевел дух.
– Да, вчера вечером. Звонил тебе, но не застал.
– Погоди, вчера вечером? А, вспомнила.
Сердце вернулось. Колотилось в душном мраке. Целая Вселенная жила в пустоте, сминаясь в раскаленный сверхплотный клубок и вновь разлетаясь бесчисленными мирами…
– Как покайфовала?
– А, ерунда. Мыкались по золотому кольцу – обрыдло-о…
– Давно приехала?
– В прошлую среду. А как ты? Чего натворил?
– Одну штуку хитрую…
– И только-то? – Она усмехнулась. Всегда-то Она усмехалась. – Для тебя это маловато… Чем же она хитра?
О чем мы говорим, с отчаянием думал Дима, о чем? Звать же Ее надо! Скорее! Хочу видеть Тебя!
– А вот на первый взгляд просто, знаешь ли, пляж, солнышко светит, бежит мужик в трусиках…