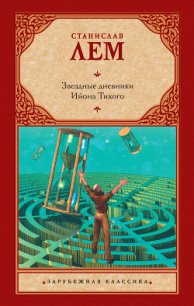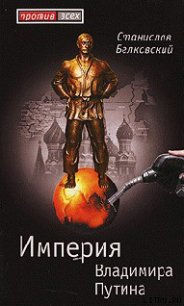Воспоминания Ийона Тихого - Лем Станислав (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
— Простите, можно?..
— Да, пожалуйста… — ответил я.
Незнакомец сел и неподвижно уставился на меня, словно пытаясь загипнотизировать. Долго смотрел на мое лицо и на руки с все возрастающей жалостью. Наконец глубоко заглянул мне в глаза — с таким безграничным состраданием и с такой теплотой, что я оторопел, не понимая, что все это значит. Молчание становилось все тягостнее. Я порывался его прервать, но никак не мог подобрать фразу, пригодную, чтобы начать разговор: его взгляд выражал слишком много и, однако же, слишком мало.
— Бедняга… — промолвил он тихо, с неизъяснимым сочувствием в голосе, — как же мне тебя жаль…
— Да ведь… знаете… собственно… — начал я, чтобы отгородиться хоть какими-нибудь словами от непонятного избытка жалости, которой он меня окружил.
— Можешь ничего не говорить, я все и так понимаю. Больше, чем ты думаешь. Например, понимаю, что ты считаешь меня полоумным.
— Да нет же, что вы, — попробовал я возразить, но он прервал меня решительным жестом.
— В известном смысле я и впрямь полоумный, — произнес он почти величественно. — Как Галилей, или Ньютон, или Джордано Бруно. Если бы мои взгляды оставались всего лишь умозрением… тогда, конечно… Но иногда верх берут чувства. Как же мне тебя жаль, о жертва мирозданья! Какое это несчастье, какая безвыходная ловушка — жить…
— Конечно, в жизни есть свои сложности, — быстро заговорил я, обретя наконец хоть какую-то точку опоры, — но так как феномен этот в некотором роде естественный, то есть природный…
— Вот именно! — пригвоздил он мое последнее слово. — Природный! А есть ли что-либо столь же убогое, как Природа? Несчастный! Ученые и философы вечно пытались объяснить Природу, а между тем ее следует упразднить!
— Целиком?.. — спросил я, невольно захваченный столь радикальной постановкой вопроса.
— Целиком и полностью! — категорически заявил он. — Вот, взгляни-ка. — Осторожно, как гусеницу, стоящую того, чтобы ее осмотреть, но вместе с тем вызывающую отвращение (которое, впрочем, он пытался скрыть), незнакомец поднял мою ладонь. Держа ее как некое редкостное животное, он продолжал говорить тихо, но выделяя каждое слово:
— Какое водянистое… какое крапчатое… вязкое… Белки! Ох, уж эти белки… Какая-то брынза, что некоторое время шевелится, — мыслящий творог — фатальный продукт кисломолочного недоразумения, ходячая тяпляпственность…
— Простите, но…
Он не обращал на мои слова внимания. Я быстро спрятал под стол ладонь, которую он отпустил, словно не в силах долее терпеть ее прикосновение; зато положил руку мне на голову. Рука была невыносимо тяжелой.
— Как можно! Как можно производить такое! — повторял он, усиливая давление на мою черепную коробку; больно было ужасно, но я не посмел протестовать. — Какие-то бугорки… дырочки… какая-то цветная капуста, — стальными прикосновениями он ощупал мой нос и уши, — и это называется разумное существо! Позор! Позор, говорю я! Хороша же эта Природа, которая за четыре миллиарда лет создала ВОТ ЭТО!
При этих словах он оттолкнул от себя мою голову так, что она крутанулась и я увидел все звезды сразу.
— Дайте мне хотя бы один миллиард и увидите, что сотворю я!
— Безусловно, несовершенство биологической эволюции… — начал я, но он не дал мне договорить.
— Несовершенство?! — фыркнул он. — Уродство! Дешевка! Начисто запоротая работа! Не умеешь сделать с умом — не берись вовсе!
— Я ничего не хотел бы оправдывать, — быстро вставил я, — но Природа, знаете ли, мастерила из того, что имелось у нее под рукой. В праокеане…
— Плавал мусор! — докончил он громогласно; я даже вздрогнул. — Разве не так? Звезда взорвалась, возникли планеты, а из отходов, которые ни на что не годились, из слипшихся жалких остатков возникла жизнь! Довольно! Довольно этих пузатых солнц, идиотских галактик, головастой слизи — довольно!
— Однако же атомы, — начал я снова.
Он не дал мне докончить. Санитары уже шагали к» нам по газону, привлеченные криком.
— Плевал я на атомы! — рявкнул он.
Санитары подхватили его под мышки. Он позволил увести себя, но при этом продолжал смотреть в мою сторону (он пятился задом, по-рачьи) и истошно вопил на весь парк:
— Надобно инволюционировать! Слышишь, ты, бледнющая коллоидная бурда?! Вместо открытий делать закрытия, закрывать все больше и больше, чтобы ничего не осталось, ты, клей, на костях развешанный! Вот как надо! Только через регресс — к прогрессу! Отменять! Упразднять! Регрессировать! Природу — вон! Долой Естество! Доло-о-о-ой!!!
Его вопли удалялись и затихали; тишину чудесного полдня снова заполнили жужжание пчел и запах цветов. Я подумал, что доктор Влипердиус, пожалуй, преувеличил, сказав, что буяльных роботов больше нет. Как видно, новые методы были небезотказны. Однако, решил я, эта встреча, этот вызывающе грубый пасквиль на Природу, только что мною выслушанный, стоит нескольких синяков и шишки на голове. Впоследствии я узнал, что мой собеседник — бывший анализатор гармонических рядов Фурье — создал собственную теорию бытия, согласно которой цивилизация множит и множит открытия до тех пор, пока не остается ничего другого, как поочередно их закрывать; так что в конце концов места нет уже не только для цивилизации, но и для Мироздания, которое ее породило. Приходит черед тотальной прогрессивной ликвидации, и весь цикл начинается сызнова. Себя он считал пророком второй, закрывательской, фазы прогресса. В клинику его поместили по настоянию семьи, когда от разборки знакомых и родственников он перешел к демонтажу посторонних лиц.
Я вышел из беседки и принялся наблюдать за лебедями. Рядом какой-то чудак бросал им обрезки проволоки. Я заметил ему, что лебеди этого не едят.
— А мне и не нужно, чтобы ели, — ответил он, продолжая свое занятие.
— Но они еще, не дай Бог, подавятся, — сказал я.
— Не подавятся. Проволока тонет — ведь она тяжелее воды, — логично объяснил он.
— Так зачем вы бросаете?
— Просто я люблю кормить лебедей.
Тема была исчерпана. Мы отошли от пруда и разговорились. Оказалось, что я имел дело со знаменитым философом, создателем онтологии небытия, или небытологии, продолжателем учения Горгия Леонтинского, профессором Урлипаном. Профессор долго и подробно рассказывал мне о новейших достижениях своей теории. Согласно Урлипану, нет вообще ничего, и его самого — тоже. Небытие бытия самодостаточно. Факты кажущегося существования того и сего ни малейшего значения не имеют, ибо ход рассуждений, если пользоваться «бритвой Оккама», выглядит так: по видимости существует явь (то есть реальность) и сон. Но гипотеза яви не обязательна. Существует, стало быть, сон. Но сон предполагает кого-то спящего. Однако постулировать спящего опять-таки не обязательно: ведь порою во сне снится другой сон. Так вот: все на свете есть сон, который снится следующему сну, и так до бесконечности. Поскольку же — и это центральное звено рассуждений — каждый следующий сон менее реален, чем предшествующий (первичный сон граничит с реальностью непосредственно, вторичный — лишь косвенно, через сон, третичный — через два сна и так далее), — эта последовательность стремится к нулю. Ergo, в конечном счете снится никому — нуль, ergo, существует только ничто, то есть: нет ничего. Безупречная точность доказательства восхитила меня. Я только не мог взять в толк, почему профессор Урлипан находится здесь. Как выяснилось, несчастный философ спятил — он сам мне в этом признался. Его безумие заключалось в том, что он усомнился в своем учении и временами ему мерещилось, что самую капельку он все-таки существует. Доктор Влипердиус взялся вылечить его от этого бреда.
Потом я осмотрел отделения клиники. Между прочим, познакомился с одной ветхозаветной цифровой машиной, которая страдала старческим слабоумием и никак не могла сосчитать десять заповедей. Был я и в отделении электростеников, где лечат манию навязчивых состояний; какой-то больной без устали развинчивался, чем только мог, и у него все время приходилось отбирать орудия, которые он припрятывал для этой цели.