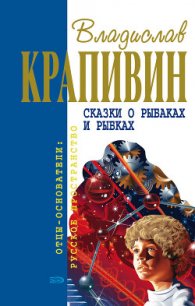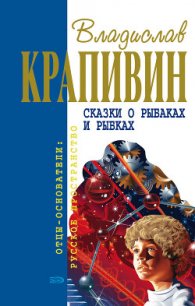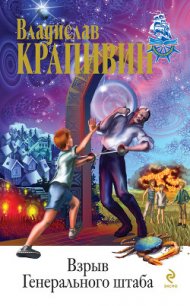В глубине Великого Кристалла. Том 2 - Крапивин Владислав Петрович (первая книга .TXT) 📗
— А вас, молодой человек, я просто обязан запечатлеть! В память о счастливом случае, результатом которого стало наше приятное знакомство.
Ничего себе счастливый случай! Я им стекло разнес вдребезги, а они со мной как с дорогим гостем…
Однако я уже не испытывал ни испуга, ни смущения. От мастера Гольдштейна и от старой, сумрачной на первый взгляд Сонечки исходило такое доброжелательство, словно я был их внуком. Я чувствовал, что они в самом деле рады мне. И не в том дело, что я счастливо избежал серьезных увечий, а в том, что я просто есть! Отчего это, я не понимал и понять не пытался. Мне было здесь хорошо, вот и все.
Старики завесили одеялами разбитое окно, вскипятили самовар, напоили меня сладким рыжим чаем с морковным пирожным. При этом не спрашивали, как я учусь, хорошо ли себя веду и где мой папа (где он, мы с мамой тогда не знали). Старик говорил больше про себя. Рассказал, как он в юности, когда только начал увлекаться фотографией, вздумал сделать портрет соседского козла для фотовыставки о животных и был атакован этим неинтеллигентным рогатым созданием. Я смеялся и болтал ногами. И все хотел спросить про веснушчатую девочку на портрете, но так и не спросил, постеснялся.
Матвей Борисович проводил меня до знакомой улицы Котовского. Сказал, чтобы я зашел в гости через несколько дней, тогда получу фотокарточку. И я, конечно, обещал. Но через день заболел корью и пролежал до школы. Карточка пришла по почте.
В сентябре я отправился в фотомастерскую, чтобы сказать мастеру Гольдштейну спасибо и, если получится, еще раз окунуться в необыкновенную ласковость, которую ощутил там летом. Но отыскать Ключевской спуск я никак не мог. И кого ни спрашивал, никто не слышал про такую улицу. Маме было жаль меня, и она несколько раз ходила со мной, но толку никакого. А старшая сестра сказала, что Ключевского спуска вообще нет, мастерской и старого мастера — тоже. Это одна из моих фантазий.
— Каждый день новые сказки! То какой-то травянистый заяц, то самокат! Ты же знаешь: нет у тебя никакого самоката, никто тебе его не дарил.
— Но фотокарточка-то есть! Где я с бинтами! Карточка и правда была. Я на ней с повязкой на лбу, как раненый партизанский командир.
— Это тебя сфотографировал Мотя. В тот день, когда ты слетел с качелей!
Мотя (кстати, по фамилии Гольдштейн!) был приятель сестры, ее одноклассник. Он и правда иногда снимал нас похожим на гармошку аппаратом, а потом уехал на фронт…
Я теперь не понимаю: какой фронт? Ведь если дело было во время войны, откуда мог взяться самокат на пухлых надувных шинах? Такие стали делать гораздо позже. А откуда у разбитой витрины мастерской взялись красноармейцы в обмотках и с трехлинейками? Когда я был первоклассником (в той самой синей матроске), солдаты ходили в начищенных кирзовых сапогах, без оружия и скаток, в новеньких гимнастерках или мундирах с красными и черными погонами. У тех, что постарше, были медали «За победу над Германией»…
Теперь во всех этих давних воспоминаниях — такая же запутанность, как в загадочных построениях на грани яви и сна. Да, ласковость, но и запутанность, в которую я много раз хотел проникнуть, но не умел, не успевал…
Порой случалось: придешь в себя, и какой-то миг еще держится смутное, зыбкое, как рябь на воде воспоминание. Но сглаживается прежде, чем успеваешь закрепить его в сознании…
И все же один раз мне удалось ухватить кусочек странного мира. Я вцепился в него всеми когтями памяти, не дал ускользнуть, оторвал от хитрой многомерной головоломки, которая принялась было выстраиваться вокруг меня в зыбком мире полусна. Я резко встряхнулся, непостижимое построение исчезло, но кусочек его остался у меня в руках. То есть в голове. В том смысле, что я его помнил.
Это был синий треугольник.
Точнее так — Синий Треугольник. Большие буквы объясняются тем, что иначе я не могу выразить странность и многозначительность этого нечто.
По правде говоря, никакого треугольника я не видел. Я сидел на скомканной постели (за окнами была предрассветная муть с жидким фонарем), держал на подтянутых коленях кисти рук с повернутыми вверх ладонями, и на ладонях, кажется, было что-то. Невесомое, зыбкое, слегка пушистое и… как мне показалось, отливающее синевой. Именно показалось, поскольку на самом деле это что-то разглядеть в сумраке было невозможно.
И было ощущение неожиданной добычи. В мире моментально забывшегося сна, в неведомом пространстве с чуждыми нашему миру законами я ухватил и сумел удержать какую-то деталь. И перенес в нашу явь. Хотя в слове «деталь» чувствуется твердость, материальность, а это было без прочности и массы. Лишь еле-еле, не руками, а самыми кончиками нервов я чувствовал паутинчатую структуру — не то из магнитных нитей, не то из чьих-то непонятных мыслей.
И эта структура была живая! И мне представлялось почему-то, что она ограничена контурами треугольника. Размером с пионерский галстук, какой я носил в школьные годы.
Только галстук был красный, а в этом треугольнике — я уже говорил — была ощутима синева. Причем не ясная, а что-то вроде голубовато-сизого тумана.
Я тогда сразу подумал про свою добычу: «Синий Треугольник». И потом так и называл это странное существо.
Конечно, это было существо. Или, по крайней мере, мыслящая материя. И мы тут же вступили в контакт. В телепатический. Вернее, я говорил шепотом, а Синий Треугольник отвечал мыслями, которые щекотали мне мозговые извилины.
— Попался… — неуверенно сказал я. Сердце стукало, в голове таяла последняя слабенькая память о недавнем сне про неведомое, и я понимал, что никак не соображу, частью чего является Треугольник. И все же испытывал некоторое злорадство.
— Да уж, попался… — хмыкнул он (мысленно, конечно). В его тоне ощущалась снисходительность взрослого человека, который играл в шахматы с неопытным школьником и получил мат из-за нелепого и досадного зевка.
— Теперь никуда не денешься…
— По крайней мере до перепрыга, — добродушно согласился он.
— До чего? — замигал я.
— Кажется, я выразился с максимальной простотой, — сказал он с легким недоумением. — До пе-ре-пры-га. До момента, когда нити Всеобщей Координационной Сети поменяются местами. Неужели не ясно?
— Напрасно ты иронизируешь. Мы ведь из разных… так сказать, сфер. Я не знаком с вашей терминологией.
Он буркнул что-то вроде «извини».
— Ты меня тоже извини. Я вовсе не хочу делать тебя заложником…
Похоже, что он чуть-чуть хихикнул. В том смысле, что «попробовал бы…».
— Я просто хочу, чтобы ты помог мне разобраться… во всем… — неловко объяснил я.
— В чем во всем?
— Ну… в том, что вижу, но не понимаю. Я про свои сны. — У-у…
В этом «у-у» была явная ирония.
— Думаешь, я совсем тупой? — обиделся я.
Синий Треугольник чуть шевельнулся (легко и щекочуще) у меня на ладонях.
— Не совсем… но ты даже не понимаешь, что это не сны. Вернее, не понимаешь, что такое сны.
— Вот и объясни… — Я решил не обижаться.
— Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе общие закономерности многомерного континуума, где законы твоего пространства — это лишь один из миллионного множества вариантов? А в каждом таком варианте еще многомиллионные разнообразности причинно-следственных и следственно-причинных (а также всяких других) связей… Честно говоря, я и сам не могу объяснить всего… Никто не может… Кроме Создателя.
Мы помолчали. За окнами светлело, желтый фонарь погас. Видимо, было около четырех часов утра. Где-то коротко провыла милицейская сирена. Я вдруг испугался, что Синий Треугольник мне приснился, как и недавние лабиринты чужих пространств. Но он был тут, со мной. Я даже сумел разглядеть теперь что-то похожее на клок тумана размытой треугольной формы. Сквозь туман проступали мои растопыренные ладони. Я пошевелил пальцами (их кольнули электрические мурашки) и спросил с сумрачной неловкостью: