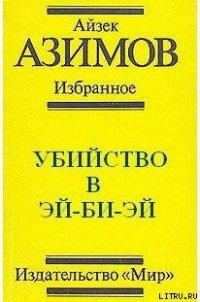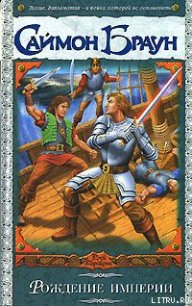Гномон - Харкуэй Ник (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Мы говорим на повышенных тонах. Я поднимаю палец к небу, чтобы подчеркнуть свои слова, — и земля вздрагивает, чуть-чуть, будто в ответ.
Так-то.
Потом мы сидим друг напротив друга за столом, с яйцами и сухарями.
— Ты не изменилась, — говорит наконец Августин.
Я фыркаю:
— Я стала старше, мудрее и отрастила толстые щечки. А ты выглядишь как… епископ.
— Да.
— Наверное, это неизбежно.
— Поверить не могу, что ты за это делаешь.
— Что?
— Трансмутацию. Ты разорвешь на части Церковь и всё, что мы знаем.
— Возможно, со временем. Возможно, Церковь неправдива. Несправедлива. Даже грешна.
— Я этого не принимаю.
— Я не просила тебя это принимать.
— Я могу тебя остановить.
— Не думаю.
Долгое молчание. Мы смотрим друг на друга.
Молчание затягивается. Где он этому научился? Мой Августин терпеть не мог пауз в эмоционально насыщенной ситуации. Он бы лез на стену, превентивно оправдывался и отрицал, а потом — к делам насущным: нет времени на человеческие чувства, Бог требует.
С другой стороны, может, эта ситуация для него эмоционально не насыщена. Да что там, для меня, кажется, тоже.
— Прости, — наконец говорит он.
— Что?
— Прости. Меня. За все, что я сделал.
Прямое извинение, бесстрастное. Опасный огонь у меня в животе.
— За то, что соблазнил меня?
Выставив из дома, он представил меня жертвой, словно не я была хищником, а он добычей во время нашей первой встречи. Меня это ужасно взбесило.
Но этот, новый, улучшенный Августин лишь смеется:
— Видит Бог, нет! Я — не самый способный ученик, когда речь заходит о делах сердечных, но все же учусь. Нет. За нашу любовь: за физическое наслаждение друг другом и за наше единение. За нашего сына я не прошу прощения и сожалею, что когда-то просил. Но за его смерть, которую не смог предотвратить, и за то, как я себя тогда повел, как обошелся с тобой, обретя веру, — за это прошу прощения. Я не надеюсь его получить, но искренне желаю обрести со временем.
Так-так. Уже впору поверить в чудеса. Вот он, Аврелий Августин, одновременно священник и мужчина, которого я любила, в одном теле. Куда-то пропал бичующийся грешник и возник умиротворенный вероучитель, принявший свою жизнь и будущее: человек, способный сдвинуть горы.
И опять непривычная тишина. Я понимаю, что теперь мой черед ее нарушить:
— Спасибо. Олух.
Его брови взлетают. Немногие так обращаются к епископу Гиппонскому.
— Теперь, — говорит он, — ты расскажешь мне об этом? Если тебе хватит сил.
Расскажу, конечно, но сперва должна кое-что сделать. Я наклоняюсь через стол и легонько целую его в лоб с благословением, и чувствую, будто у меня внутри развязался узел, о котором я и не знала раньше. Злоба, прибереженная на черный день, которой я на самом деле никогда не хотела. Я ее отпускаю.
Benedicte, Августин. Дурачина ты.
Будто сбросила с плеч тяжелый мешок. Мускулы в груди открылись, расслабились — свобода. Я задерживаю дыхание от этого чувства, и его запах держится у меня в носу и во рту.
Неправильный запах, а с ним приходит звук дверей.
Я отталкиваю его и обнаруживаю грека, плачущего в темной пещере.
Побег из Алем-Бекани был первым святым мгновением моей жизни. Я видел нечто более реальное, чем полотняные простыни отеля в Тунисе, где очнулся. Меня мучила невыносимая жажда, все тело болело и воняло, но, прежде всего, было ужасно холодно, потому что я привык к печной жаре своей камеры.
Это был дорогой отель. Белые полотенца лежали на оттоманке в изножье кровати, а комнату наполнял солнечный свет, который я уже не надеялся увидеть. Я не был безумен, сам дивился и не верил в свой побег. Я видел мир ясно и четко. Я выпил целый кувшин воды, который стоял у кровати, — к счастью, небольшой, поэтому сумел подавить рвотные позывы. На маленьком кофейном столике меня ждал ломоть хлеба, фрукты и сыр. Я ел как птица, крошечными кусочками, а потом сел и снова принялся за еду, все утро только и думал, что о вкусе Оссо-Ирати, яблок и несоленого итальянского теста. Затем я помылся в прохладной воде и оделся — моя одежда лежала в соседней комнате. Я понятия не имел, как за все это расплачусь, пока не обнаружил — к своему изумлению — браслет из золотых монет, который лежал рядом с манжетой рубашки; толстых южноафриканских монет, и как бы я ни ненавидел в те дни эту страну, не стал вертеть носом.
Там, в отеле «Гран-форум», под призывы муэдзина с мечети аз-Зайтуна для меня свершилось не перерождение и не возрождение, а странствие прочь от собственной смерти. Думаю, так я и воспринимал все хорошее, что со мной происходило с тех пор, — не как благословенный подарок, но разрушение горестей, будто их в мире ограниченное количество, а значит, их можно смыть усилиями и надеждой.
Теперь, когда мы выходим из потайной комнаты в огонь — а я почти несу детей в дрожащих руках, потому что если не я, то кто? — я смотрю вперед и вижу измученного черного юношу на коленях. Он тянется ко мне, и я чувствую вонь Алем-Бекани, убийственную, явную. Ох, Матерь Божья, пусть это не окажется лихорадочным бредом умирающего. Лишь бы не очнуться снова в 1974 году и не пережить весь этот ужас заново.
Нет. Не очнусь. Мальчик хватает меня за руку, поднимает глаза — и я вижу собственное молодое лицо, кричу ему: «ИДИ». Поначалу он не шевелится. Идиот, абсолютно ничего не понимает. Неужели он меня подведет? Господи, решится ли он? Вот стою я, старая развалина, бьюсь за него в новой стране, несу его внучку прочь от опасности, а он задницу не может поднять ради собственного спасения! Пинок тебе под зад, мальчишка, и давай бегом!
Он побежал, слава Богу. Я чувствую какое-то жжение в хребте, потом оно исчезает, а вместе с ним — привычная тяжесть с левой руки, мой браслет из крюгеррандов 1967 года.
Когда-то по делам фирмы я встретился с человеком, который страдал от необычного заболевания: он был слеп, но помнил зрение.
Я не о том, что он недавно ослеп — хоть это правда, милостью неудачной драки в одном из баров Сохо, — а о том, что, будучи слепым в настоящем, он в своих воспоминаниях видел прежние события, так что, глядя на список товаров, ничего не видел, даже абриса бумаги и своей руки, но, если пытался его вспомнить, картинка тут же вставала перед глазами. Повреждения мозга сделали его слепым к текущему мгновению, но оставили ему прошлое. Теперь это происходит у меня. Я помню, как спустился в холл отеля и отдал свои золотые монеты, понимая, что для этого они мне и нужны. Я помню радость метрдотеля при виде ошеломительной переплаты. Помню, как позвонил в британское посольство и спросил, не могут ли они помочь молодому гению в тяжелый момент, а потом выяснилось, что посол — эфиофил и мой поклонник.
Я все это помню, но этого не делал. Точно контуры скульптуры или мой портрет Хайле Селассие: точки на карте реальности, но, если приходишь к ним, их нет. Или все остальное нереально, и, если смахнуть тени, останутся лишь они.
Круг замкнулся. Значит ли это, что я исполнил свое магическое предназначение? Или мое странное спасение случилось лишь для того, чтобы я мог спастись снова — потом? Или я спасаюсь сейчас только для того, чтобы тот мой побег совершился именно так, как я его помнил? Если я уйду отсюда и когда-нибудь умру, значит ли это, что срединная часть моей жизни — лишенная искусства, но спокойная — будет существовать вечно?
В темноте, в том месте, где я был прежде и где, вероятно, я есть всегда, — я вижу женщину и мужчину.
Она высокая, он низкорослый. Ей явно не нравится его присутствие, несмотря на то что она только что одарила его поцелуем памяти, принадлежащим старым любовникам и Лорен Бэколл. Ей слегка за сорок, и, видит Бог, она похожа на одну из тех глубоких, разумных женщин, с которыми можно было познакомиться на какой-нибудь вечеринке для любителей живописи и которая бы элегантно, но твердо отвергла мое неизбежное предложение.