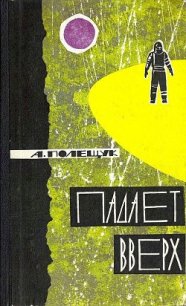Падает вверх - Полещук Александр Лазаревич (список книг txt) 📗
— Недостатка в натуре не было? — засмеялся Платон Григорьевич.
— Какой там недостаток! Мне вначале нужно было руку, как говорится, размять. Нарисовал Леонида, потом его мать и рисунки ставил длительные, на пять часов, на десять, потом за ребятишек принялся. Много у нас там в доме было ребятишек, да и ученики мои приходили. Просто так приходили, рассказать о школе, о своей жизни. Попрошу посидеть часок-другой перед мольбертом — никто не отказывал… И дело пошло на лад. Потом стал писать пейзажи. Леонид вытащил. «Что вам все в комнате да в комнате рисовать, я вам такие места покажу — ахнете, и в Третьяковской галерее таких видов не найдешь…» -
— И много вы картин сделали?
— Много, Платон Григорьевич, очень много. Писал быстро, как говорят, «машисто». Взахлеб. Церковь у нас старая была, по неподтвержденным слухам', Казаковым строенная. Из белого камня тесаного, что с берегов Оби привозили. А камень этот теплый. Небо сумрачное, вот-вот дождь будет, но присмотрись, а камень солнечной желтизной светится, тонкой такой, радостной. С нее и начал. Ожил я в те дни. И все спокойней и спокойней думалось мне о моем изобретении… А там снес несколько картин на продажу, и опять повезло: знакомого художника встретил. Еще до войны вместе работали, в одной студии. Узнал он меня, обнял. А продавец видит, как мы встретились, и мои картины тут же унес, в рамы вставлять, как выяснилось. Потом знакомый мой из шести четыре мне вернул, показал, что к.чему, где верно, где я нафантазировал, но дела мои пошли на лад. И окреп я физически. А как же? Целый день на воздухе, и в солнечную погоду и в пасмурную. Загорел за лето так, что будто из Африки приехал. Ведь у меня руки сперва дрожали. Как выйдет? Да кому это все нужно? Что ни говори, жалко иной раз расставаться с картиной, даже с удачным этюдом, а когда говорят, что картина продана, легко на душе становится: значит, нужен твой труд, нравится людям. Так прошло лето, прошла осень, зима… И вот весной отправились мы как-то с Леонидом па рыбалку. Пруды невдалеке ст нас были, замечательные пруды. Я взял этюдник, Леонид удочки: одну — себе, а другую на мое счастье закинул. Я рисую, и так, знаете ли, вокруг свежо, и просторно, и чисто по-весеннему, что не заметил, как стал рассказывать Леониду про все, что случилось со мной. Слушал он меня, слушал, не перебивал, а потом поднимается ко мне, берет мой холстик, поворачивает его на другую сторону и говорит: «А ну, как эта штука у вас будет работать?»
Я ему нарисовал схемку… Прямо кистью. «Вот, — говорю, — таким образом должна она работать». А Леонид отвечает: «Все правильно! Так что же вы рисуете, Михаил Антонович? Как это можно? Отказов испугались? Все инстанции прошли? Нет, не все инстанции. Не все!»
С этого, собственно, и началось…
— Но чем же Леонид мог вам помочь? Ведь вы говорили, что он был простой рабочий, кажется, сварщик?
— А помог… Еще как помог. Я ему частенько рассказывал о своих друзьях, и он начал с того, что собрал их всех у меня. Всех собрал, всех нашел. И я уже больше не был одинок… Я обязательно расскажу вам о своих друзьях, ведь без них дело это было бы мертвым, ничего не было бы.
— И среди ваших друзей были и Полковник и Могикан?..
— И Гусар и Морж… — Мельников засмеялся. — Да вы многих уже знаете, Платон Григорьевич, а тоже по их позывным называете… Но вот с кем вы еще не встречались, так это с Джигитом.
— Я видел его карточку, у него, кажется, одна рука?
— Правильно.
— И как же он летает с одной рукой?
— Приспособился, вот и летает. Он ведь геолог, сейчас, вернее сказать, лунолог. Так я расскажу вам о нем, Платон Григорьевич? Или лучше у себя в свободную минутку наговорю катушку, другую и пришлю их вам…
Диспетчер сдержал слово. Он подробно рассказал о тех, кто помог ему сделать первые шаги к практической реализации его изобретения. Вот его рассказ:
— Иннокентий Нартов… Тебя я вспомнил первым… Вот ты в школе. Задумчиво посматриваешь во двор своими большими черными глазами. За окном вечер, и я ясно вижу с соседней парты отражение твоих глаз в оконном стекле. Мы зовем тебя «Инка», а когда говорим друг с другом, то фраза «Инка опять подрался с Гайдуковым» вызывает недоумение: что это за Инка, которая дерется, да еще не «она», а «он»…
Я пришел в ваш класс в сороковом году. Крепче, сытнее зажил народ в канун войны. Спросите любого старого педагога, каждый скажет: «Как живые у меня перед глазами выпуски предвоенных лет. Какие были ребята! Веселые, рослые, один к одному».
Артиллерийское училище стало тебе вторым домом: тебя любили товарищи, где бы ты ни был. За что? Да на тебя было всегда приятно смотреть, радостно говорить с тобой, Иннокентий, руки твои ловко и быстро делали все: вскрыть ли консервную банку или разобрать оружие, скрутить «козью ножку» или лихо отстукать «собачий вальс» на случайно сохранившемся среди развалин рояле. Три пули вогнал немецкий танкист-пулеметчик в твою левую руку, и повисла навсегда безжизненной плетью бескровная кисть… Госпиталь, потом комендатура в маленьком прифронтовом госпитале, затерявшемся гдето в Сальских степях. Потом в твой кабинет постучал твой же подчиненный, следователь комендатуры.
— Старший лейтенант, — обратился он к тебе. — Вы когда-нибудь были в Павловской?
— Был… — ответил ты, и сердце замерло. «Началось, — подумал ты. — Началось самое страшное, страшнее смерти».
— Вы помните майора…
— Да, помню…
— Я должен вас арестовать… Прошу сдать оружие…
Станция Павловская… В туманное утро батарея «эрэсов» покидает позицию. Это знаменитые «катюши», сейчас их желоба опущены и покрыты чехлами. Одна за другой уходят машины. Осталась одна. Иннокентий спустился в блиндаж, схватил вещевой мешок, бросился назад. Там, наверху, прогремел выстрел. Совсем рядом, еще и еще. Когда Иннокентий выскочил из блиндажа, шофер последнего грузовика, раскинув руки, как-то странно повалился на бок. А грузовик, развернувшись, уже набирал скорость, он уходил туда, к фронту, уходил к немцам. Иннокентий бросился ему наперерез, лишь об одном он думал в этот момент: не дать ему уйти, это «катюши», это же «катюши»! Он не знал, кто в машине, не было времени думать об этом, нужно было бежать, спешить, во что бы то ни стало приблизиться к машине. Широкая траншея преградила путь машине, а пока невидимый Иннокентию водитель, сбавив скорость, обходил ее, Иннокентий успел добежать, увидеть, выстрелить… Машина сразу же остановилась. Шумно дыша, Иннокентий распахнул дверь кабины. Там лежал майор… Иннокентий сел за руль, медленно выехал на дорогу, рядом лежало тело предателя. Кем он был? Почему он хотел увести драгоценную для всякого советского человека машину к врагу? Какое счастье, что он задержался в блиндаже, ведь тогда предатель застрелил бы и его, как застрелил водителя, и уже приближался бы к немецким позициям. А сейчас, что делать сейчас? Единственный свидетель — мертвец, рядом труп «непосредственного начальника». Да ведь и товарищи как-то не доверяли этому майору. Рассказывали, что в день приезда его в часть при странных обстоятельствах погиб младший лейтенант Сергеев… В этот же день… Теперь многое становилось ясным.
Свою часть Иннокентий так и не догнал. «Катюшу» сдал на первой же батарее, рассказал о майоре. «Проверим, — сказали ему, — а сейчас получите назначение в артдивизион».
Все остальное время, до дня ранения, пробыл в противотанковых частях. Иногда вспоминал станицу Павловскую, майора, и было страшно: «А вдруг не поверят… Не поверят!..» Это было малодушие, и вот сейчас томительные недели заключения, допрос за допросом, наконец военный трибунал,
— За убийство старшего по званию старший лейтенант Нартов Иннокентий Георгиевич приговаривается к смертной казни, расстрелу… — звучал в его ушах голос председателя трибунала.
Последнее слово… Иннокентий собрал всю свою волю и сказал твердо:
— Прошу заменить мне «штрафной». Поверьте, я не последний человек, искуплю свою вину…
— Поздно, — сказал один из судей, — у вас одна рука.