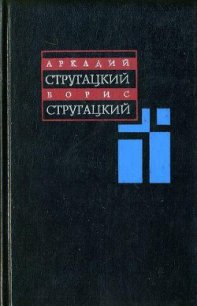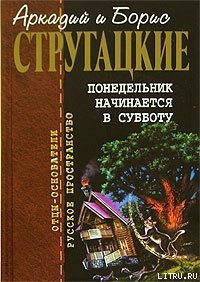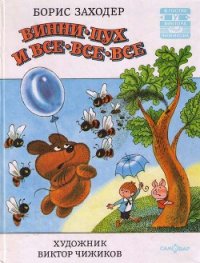Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики - Стругацкие Аркадий и Борис
– Гадюшник развели? – сказал он ему, уже не в силах управлять собою, уже проваливаясь в никуда, уже ничего почти не видя. Исчез безумный хоровод голубоватых нелюдей, остался кремовый потолок над головой и отрывистые вспышки света у самого края сознания, и рыдающий гам.
Потом:
– Никаких уколов! – сказал страшный голос Ивана, скребучий голос наемного убийцы. – Руки оборву, ты, краснорожий!..
Сейчас он его убьет, подумал он с отстраненным удовлетворением, и наступил обморок…
Была обширная светлая комната, сплошь завешенная бельем – простынями, полотенцами, кальсонами, кажется, и рубахами. Пахло сыростью и свежестью, Виконт курил, но запаха табака как раз и не было…
Сон, сказал ему Станислав, но Виконт хмуро потряс головою и поправил: обморок. Не заблуждайся, ради Бога. Это – обморок…
Смотри, сказал ему Станислав. Смотри – Сенька!.. Семен Мирлин сидел к ним спиною и боком и играл с кем-то в карты, с кем-то невидимым – от него только рука с веером карт то появлялась из-за простыней, то вновь там исчезала. А Семен выкладывал карту за картой, собирал взятки, рокотал вполголоса: «Ауф айн припечек брент а файр’л…» и местечковая эта пустенькая песенка в его исполнении становилась значительной, словно песня Сопротивления. Пол Робсон. «Миссисипи». «Джо Хилл»… Потом Станислав узнал того, кто сидел напротив Семена – это был Сашка Калитин, они все снова были в колхозе имени Тойво Антикайнена, но не было никаких девок – только Лариска вдруг прошла мимо, строго-неприступная, и сразу стало горько и неловко…
Ты знаешь, сказал он Виконту. Когда маме снились мертвые – отец мой или тетя Лида, – она говорила мне совершенно серьезно: ждут, знают, что скоро уже… Это правильно, заметил Виконт, но у нас же не сон, у нас – обморок…
Хорошо, сказал ему Станислав. Но ответь мне, пожалуйста: кто всегда правил этой страной? Всегда. Изначально… Ну, изначально – ладно. Изначально – по всему миру и все без исключения были хороши. Но возьми времена новые и даже новейшие. Кто были эти люди? Равнодушные сыновья. Распутные мужья. Бездарные отцы. Рассеянные братья-дядья… И вот человек, очевидно не способный устроить хоть как-то по-людски, сорганизовать, осчастливить собственную маленькую семью (мать, жена, двое детей, сестра, брат, племянник – десяток БЛИЗКИХ, всего-то – ДЕСЯТОК!) – этот человек берется сорганизовать, устроить, осчастливить двухсотмиллионную страну!..
Ты мне все это говорил уже, напомнил Виконт…
Да, да. Я и не претендую на новизну. Ты, между прочим, тоже постоянно повторяешься…
Я не повторяю-СЯ. Я цитирую. Я люблю цитировать. Это гораздо безопаснее…
Хорошо, хорошо. Я только пытаюсь тебе как следует объяснить свой основной принцип… Конечно, этот так называемый Великий человек, никем он в результате не управляет, кроме кучки таких же, как и он, ничтожностей, которых властен убивать и унижать, но не властен сделать лучше – не знает, как их сделать лучше, да и не хочет он этого… Откуда же тогда, скажи, наша извечная жажда преклонения перед великой личностью? Я тебе отвечу: просто мы хотим верить, что историю можно изменить одним-единственным, но грандиозным, усилием – за одно поколение, «еще при нас». Но великие люди не меняют историю, они просто ломают нам судьбы…
И так будет всегда, до тех пор, пока они не научатся МЕНЯТЬ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКОВ…
(Кто это сказал? Виконт?..)
Не люди спасут людей, сказал Виконт вразумляюще, а нелюди. Люди не способны на это, как не способны киты спасти китов, или даже крысы – крыс…
Суть и главная примета нашего времени, сказал Виконт, – естественность неестественного, и даже – противоестественного… Единственный способ иметь дешевую колбасу – делать ее из человечины…
Ты обратил внимание, сказал Виконт, как трудно в наших джунглях найти бюрократа: вокруг одни только жертвы бюрократизма, и ни одного бюрократа!..
Ты мне лучше скажи, на кой ляд ты держишь при себе этого Малныча? Он же идиот…
А он мне нравится. Он полезный человек. Если бы к нему в кабинет заглянул вдруг кентавр, знаешь, что бы он ему сказал? «Заходите. А лошадь оставьте в коридоре».
(Сделалось пусто и мрачно в комнате, только что такой светлой. Душно сделалось, а было так свежо. И не осталось в ней больше никого, кроме Виконта. Виконт лежал в постели, он грипповал, а Станислав пришел его навестить, сидел на полуобморочном стуле, и оба курили. Произносились слова, имеющие двойной и тройной смысл. Никто, словно бы, не хотел быть понят. Но каждый хотел высказать то, что наболело, потому что наболело – нестерпимо…)
Я вовсе не друг человечества, возразил Виконт. Я враг его врагов…
Опять цитата? Скажи, наконец, хоть что-нибудь свое…
Но зачем? Если ты хочешь понять, кто есть кто и зачем, неужели тебе небезразлично, какими словами я тебе объясню? Своими? Чужими? Вообще – на пальцах? Сапиенти сат…
Я не могу верить цитатам. Цитаты всегда лгут, потому что они, по определению, суть ПАРАПРАВДА. Они – безопасны. Если бы ты хотел быть откровенным, ты бы говорил своими словами, – корявыми, маловразумительными, может быть, но своими. Если б ты вознамерился…
Если б гимназистки по воздуху летали, все бы гимназисты – летчиками стали…
Молодец. Умница. Лихо отбрил. Как врага…
Ты все еще ТАМ, мой Стак. Ты все еще проживаешь «в той стране, о которой не загрезишь и во сне». Нет этой страны, и никогда не было. «Но всегда, и в радости, и в горе, лишь тихонечко прикрой глаза: в неспокойном, дальнем, синем море бригантина поднимает паруса…» Флибустьеры были обыкновенные уголовники, мой Стак, морская шпана, кровавая и подлая. А автор этих строчек умер самой обыкновенной страшной смертью – он был убит на войне… Ты все воображаешь, что есть где-то Рай, мой Стак, а где-то – Ад. Они не ГДЕ-ТО, они здесь, вокруг нас, и они всегда сосуществуют: мучители живут в Раю, а мученики – в Аду, и Страшный Суд давно уж состоялся, а мы этого не и заметили за хлопотами о Будущем…
Иногда мне кажется, что я тебе абсолютно не нужен, Виконт. Ты отвратительно самодостаточен – тебе никто не нужен…
Ошибаешься. Ты мне очень нужен. Я поставил на тебя. Ты – моя армия, моя ударная сила. Так что изволь соответствовать…