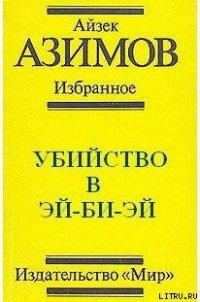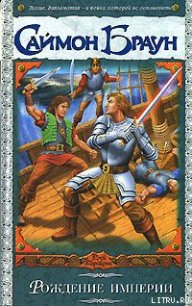Гномон - Харкуэй Ник (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Он должен значить что-то важное, поэтому он есть в каждой истории. Само слово предполагает нечто, перпендикулярное всему остальному, выделяющееся. Это та часть солнечных часов, которая отбрасывает тень — придает смысл циферблату. Нечто, что можно добавить к чему-то другому, чтобы получить сущность, подобную изначальной. Это намек? Может, Гн-м-н — последнее убежище и спасение моего «я»? Тропинка в обход мозговой травмы к тому, что я знаю как фундаментальную суть самой себя?
Мы часто говорили об этом с Робертом. Я могу это сказать здесь, не опасаясь, что меня подслушают. Мы говорили о такой штуке — перезагрузочной коробке.
Она рождается из пластичности человеческого представления о смерти. Когда-то мы полагали, что смерть — то, что происходит, когда у тебя останавливается сердце, а мозг перестает подавать сигналы. Теперь мы знаем, что человека можно вернуть из этого состояния. Даже используем его в сочетании с охлаждением для эксплантаций — это хирургические операции, когда целый орган удаляют из тела, лечат от болезни так, как невозможно было бы лечить, оставайся он внутри, а потом возвращают на место и пришивают. Без технологии хирургического стаза просто не хватило бы времени: пациент истек бы кровью. При наличии современной стазис-камеры можно выиграть почти полдня. За это время удается сотворить невозможное, починить человека, который фактически мертв, а затем вернуть его к жизни. Так можно даже бороться с отказом многих органов в результате отравления — одному оппозиционеру из Казахстана перелили всю кровь и промыли весь организм семь раз, а потом подсадили клонированные клетки на органы и продержали его месяц в искусственной коме, но он выжил. Теперь играет в теннис.
Почему я все это помню, но не могу понять, чего хотела добиться? Это какая-то шутка? Розыгрыш?
Но что, если ты все равно пострадаешь? Если врачи не доберутся до тебя вовремя; если не хватит даже наших возможностей идеального ремонта; если твой мозг просто размажут, а информация в нем пропадет, как бы его потом ни чинили. Ты никогда снова не станешь тем же человеком. Все мы меняемся день за днем, и такое происшествие тебя изменит, это нормально. Но ты ведь захочешь целостности, неразрывности, и, конечно, в интересах человека, которым ты станешь, протянуть руку и достичь некоторой целостности с человеком, которым ты был. Такое серийное я.
И вот поэтому — перезагрузочная коробка. Приличного размера контейнер, в который ты складываешь свои любимые книги и любимую музыку; вещи, которые были для тебя важны в детстве и зрелости; свой дневник, свои признания и желания; свою самую старую футболку и любимое украшение. Все, что символизирует твое теперешнее «я», говорит так, как никогда не смогут выразить слова, кто ты. В идеале в перезагрузочную коробку надо положить и места, но они, разумеется, не влезут, так что положи туда список, а еще — список запахов, часов, любимых блюд и всего остального — важного, значимого, личного и родного.
У нас был план. Или у меня. Или мне приснилось, что был план. «Ребус» — это побег, аварийный выход. Большая часть меня осталась позади.
Но у меня должен был быть план, раз я подготовила эту подводную лодку. Если только я ее не придумала спонтанно, а теперь просто обманываю себя. Когда человек тонет, у него может случиться так называемый ларингоспазм. Горло смыкается самовольно, чтобы не вдохнуть воду. Если спазм не пройдет, можно умереть от удушья даже после того, как тебя вытащат из моря. Может, это со мной и происходит: вся эта ситуация — мозговой аналог ларингоспазма, оправданного задним числом с помощью ложных воспоминаний.
Или, может, этот шепот — результат давления Смита на внешние слои моей обороны? Нет смысла пытаться понять. Здесь все рассуждения замыкаются сами на себя в бесконечной рекурсии. Что я чувствую?
Но чувства — это довербальное выражение сохраненной личности, а я не полна. Я здесь, в темноте, и едва понимаю, кто я такая и как собираюсь выживать, а если мне нужно больше, придется всплывать.
Верю. Я верю, что у меня был план. Только представить себе не могу, какой. Ну, серьезно: какой тут для меня позитивный исход? В долгосрочной перспективе я не могу победить. Рано или поздно они так измолотят мой мозг, что я умру, на самом деле или по сути, либо вырвут у меня то, что хотят. В таком случае можно предположить, что во мне есть обман. Среди множества правдивых фактов, которые они добудут на этом допросе, скрывается одна ложь, которая им повредит. Они будут действовать, исходя из нее, и каким-то образом это их погубит. Я, наверное, верила, что оно того стоит.
Интересно, что это?
Может, если я это выясню, смогу и подтолкнуть их к ней, а когда они проглотят наживку, расслабиться и позволить им получить остаток меня так, чтобы не умереть самой. Может, потом я даже смогу стать для них счастливой дурой, жить предписанной жизнью и больше не тревожиться из-за всего этого бреда. Стану героем, да еще и счастливой в придачу. Мне даже необязательно знать, что я герой. Только грустно, если мой секрет обрушит эту каталажку, и я буду ужасно несчастлива, даже не пойму, что этого и хотела с самого начала.
Господи, вся эта история — полное дерьмо. Что на меня нашло?
Кстати, это неприятный вопрос, учитывая обстоятельства.
Нужно притворяться
Теперь это может показаться абсурдом, но проходить сквозь стены было вполне в порядке вещей в 1974-м — в Аддис-Абебе, равно как в Бостоне или Мадриде. Тогда под каждым кустом сидели пришельцы, которые к тому же порывались заняться любовью с каждой одинокой бразильянкой, так что изучение псионических способностей было в чести у высокой науки и популярной прессы. Способность нашего разума вызывать непосредственные изменения в физическом мире была общеизвестна и ждала лишь формального эмпирического подтверждения. Ни одна ложка не могла укрыться от настойчивых психокинетических взглядов матерей-одиночек и почтальонов, рок-звезд и воров. Наше представление о себе менялось под воздействием LSD и парапсихологии, открывавших способности, намного превосходящие привычные силы смертного человека, — пусть о них больше и говорили, чем видели в деле. В далеком будущем все люди уподобятся богам, и, быть может, мы сами происходили из того вневременного состояния, потянувшегося назад во времени к нашим незрелым личинкам-«я», чтобы обучить их навыкам, необходимым для полного раскрытия нашего потенциала: причинно-следственные связи в конце концов — лишь артефакт ограниченного сознания, а не безграничного, поэтому самые просвещенные из нас могут в час великой нужды удостоиться божественности досрочно. Тимоти Лири это удалось, к ужасу ФБР, и даже хуже — изобретателю оргонного аккумулятора, проклятому постфрейдисту, которому хватило наглости попытаться рассказать добрым американским мальчикам и девочкам про секс — и хуже того: советовать им говорить об этом так, будто нет ничего дурного в обсуждении минета.
«Первый земной батальон» Джима Ченнона должен был сделать из солдат сверхлюдей и (поскольку Ченнон служил не Эросу, а Пентагону) научить их убивать силой мысли, перелетать через железный занавес. Русские, со своей стороны, утверждали, что у них есть агенты, способные на все это — и еще кое-что — с царских времен, и потешались над жалкими потугами прогнившего Запада наверстать отставание в магической гонке вооружений. Баба-яга была русской, и Распутин, и Калугина, и Восток в объятиях ледяных степных ветров всегда понимали, что сознание — нечто большее, чем поэт и робот, которые борются за власть над Зверем. Иными словами, весь мир погряз в чудесной экстрасенсорной чепухе, так что мы были готовы поверить почти во что угодно, если идея ужасная и прекрасная, а главное — достижимая одной силой воли.
Когда пришел мой час, он был будто нарочно подстроен так, чтобы вызвать психологическую фугу. Моей «гиблой часовней» стала камера в тюрьме Алем-Бекань возле Аддис-Абебы, ее название переводится как «Прощай, мир». Хитроумное развитие концепции Бентама: камеры располагались кольцом вокруг центрального двора, где мы все мылись и разминались, насколько это позволяли, и хотя нас всегда было видно, а мы могли смотреть на тюрьму, ничего, кроме нее, не было. Думаю, это дьявольски умно. От чувства абсолютной замкнутости мысли об освобождении или побеге меркли, тонули в серых кирпичах. Я не стану утверждать, что это была особая пытка для художника: я делал наброски углем на обрывках бумаги. Рисовал других заключенных, пейзажи по памяти. В моей камере имелись окна с видом на Альпы, итальянские озера, побережье Корнуолла. Они стали моей валютой, за нее я покупал у тюремщиков право на еду, сон и отдых. На весточку старым друзьям, которые были вынуждены скрываться.